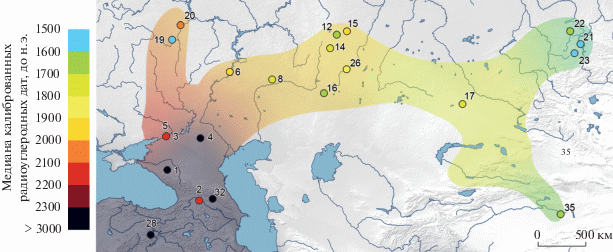Российские нанотехнологии, 2020, T. 15, № 5, стр. 671-680
ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ БРОНЗОВОГО ВЕКА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: НОВЫЕ РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАННЫЕ
Н. И. Шишлина 1, *, О. В. Орфинская 2, П. Хоммель 3, Э. П. Зазовская 4, П. С. Анкушева 5, 6, Й. ван дер Плихт 7
1 Государственный исторический музей
Москва, Россия
2 Институт египтологических исследований РАН
Москва, Россия
3 Ливерпульский университет
Ливерпуль, Великобритания
4 Институт географии РАН
Москва, Россия
5 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Челябинск, Россия
6 Институт минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН
Миас, Россия
7 Гронингенский университет
Гронинген, Нидерланды
* E-mail: nshishlina@mail.ru
Поступила в редакцию 11.08.2020
После доработки 11.08.2020
Принята к публикации 26.08.2020
Аннотация
Бронзовый век Cеверной Евразии характеризуется социально-экономическими изменениями. Революция вторичных производств определила траекторию глобальных экономических трансформаций. Среди инновационных технологий и продуктов производства и потребления – шерстяной текстиль и новый тип одежды. Результаты впервые проведенного радиоуглеродного датирования с применением ускорительной масс-спектрометрии фрагментов шерстяного волокна из памятников эпохи бронзы Cеверной Евразии позволили представить этапы и траекторию распространения шерстяного текстиля в исследуемом регионе и определить тот культурный круг, с которым связаны появление и распространение новой технологии.
ВВЕДЕНИЕ
Появление и последующее распространение шерстяных тканей привлекали внимание многих исследователей [1–6]. Однако текстиль крайне редко сохраняется в археологических памятниках древних эпох и поэтому часто текстильное производство анализируется на основании отпечатков на керамике, анализе приспособлений для производства пряжи и нитей, письменных источников, не пыльцевых полиноморф, сохранившихся в почвах, костей животных [2, 3, 5, 7–13].
Самые ранние археологические свидетельства появления шерстяного волокна в Cеверной Евразии – фрагменты сложного текстильного изделия из погребения майкопской культуры в дольмене у ст. Царская конца IV тыс. до н.э. Однако этот фрагмент считается импортным, поскольку при изготовлении ткани использовались шерстяные и хлопковые нити, и классическая технология крашения танинами, не известные в это время на Кавказе [14].
Отсутствие базы данных радиоуглеродного датирования собственно образцов шерстяного волокна (а не других материалов из этого же археологического контекста) из четких культурных комплексов эпохи бронзы не позволяло выделить основные регионы Cеверной Евразии (Восточная Европа, Урал, Сибирь, Казахстан), где в эпоху бронзы появились овцы/козы, руно которых можно было прясть, и где впервые была освоена технология производства шерстяного волокна и тканей. До последнего времени только фрагмент из дольмена 2 у ст. Царская на Северном Кавказе [15] и фрагмент шерстяной ткани из могильника Степное VIII на Урале [16] были продатированы радиоуглеродным методом.
Цель настоящей работы заключалась в проведении радиоуглеродного датирования образцов шерстяного волокна и образцов других углеродсодержащих материалов из одних и тех же погребений эпохи бронзы, расположенных на обширной территории Cеверной Евразии от Кавказа до Сибири, и проведении статистического анализа полученных данных (байесовское моделирование). Это позволило определить время и траекторию распространения шерстяного волокна в культурах эпохи бронзы исследуемого региона.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗЦЫ
В работе использованы данные о 52 образцах шерстяного текстиля, которые происходят из 26 памятников эпохи бронзы, расположенных на Кавказе, в степной и лесостепной зонах Восточной Европы, на Урале, в Казахстане и Сибири (рис. 1). Технологический анализ образцов показал, что их можно разделить на нити, шнуры, плетеную тесьму и тканные образцы (рис. 2). Часть результатов опубликована [17–21], часть готовится к печати.
Для того чтобы изучить распространение шерстяных тканей в пределах Cеверной Евразии, было отобрано 16 образцов шерстяных нитей и тканей из хорошо документированных погребений с четкой культурной атрибуцией для проведения радиоуглеродного датирования с применением ускорительной масс-спектрометрии (AMS). Перед отбором проб текстиль исследовали под микроскопом, чтобы исключить фрагменты, которые подверглись реставрации. Полученные радиоуглеродные даты калибровали в программе OxCal 4.3 [22] с применением калибровочной кривой IntCal13 [23].
При работе с 14С-датами, полученными по шерстяному текстилю, из последующего статистического анализа исключали даты со стандартным отклонением больше >70. Далее исключали образцы, которые показали значительное смещение от ожидаемых значений C/N для кератина. Однако раньше соотношение C/N при публикации 14С-дат указывалось не всегда; часто такие данные отсутствуют и при публикации новых AMS-дат образцов текстиля.
Поэтому важно было там, где это возможно, провести радиоуглеродное датирование иных углеродсодержащих образцов из того же погребального контекста, где был найден шерстяной текстиль. Были продатированы древесина (6), орехи/семена (2), кожа (1), кости животных (1). Перекрестное датирование разных углеродсодержащих образцов, включая шерстяной текстиль, подтвердило, что радиоуглеродный возраст образцов текстиля с незначительным смещением C/N совпадает с радиоуглеродным возрастом других синхронных образцов. Такие же выводы представлены в [24]. Таким образом, исходили из того, что значительное смещение C/N в образцах шерстяного текстиля может указывать на несоответствие их радиоуглеродного возраста радиоуглеродному возрасту других синхронных углеродсодержащих образцов.
Рис. 1.
Памятники бронзового века с фрагментами шерстяного и хлопкового текстиля: 1 – Царская (Новосвободная); 2 – Бедени; 3 – Шахаевский I; 4 – Ергени; 5 – Бугуруста; 6 – Алексеевский II; 7 – Золотая Нива II; 8 – Герасимовский III; 9 – Герасимовский I; 10 – Алексеевский; 11 – Тавлыкаевский II; 12 – Черняки II; 13 – Агаповка II; 14 – Степное VII; 15 – Алакуль; 16 – Ушкаттинский I; 17 – Тундык; 18 – Кайран I; 19 – Березовый рог; 20 – Борисоглебовский I; 21 – Усть-Ерба; 22 – Ужур; 23 – Уйбат; 24 – Бестамак; 25 – Джангильды-V; 26 – Лисаковский; 27 – Шахри-и-Сохта; 28 – Арслан-тепе; 29 – Боголюбовский; 30 – Гирсу; 31 – Ур; 32 – Ананаури; 33 – Дхувейла; 34 – Гумугоу; 35 – Сяохэ; 36 – Келияхе.
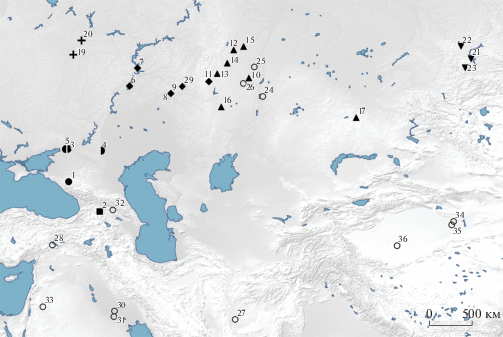
Рис. 2.
Фрагменты шерстяных тканей. Могильник Ергени, курган 6, погребение 3, катакомбная культура: 1 – общий вид, 2 – микрофотографии шерстяных волокон; могильник Усть-Ерба, погребение 1, федоровская (позднеандроновская) культура: 3 – общий вид, 4 – микрофотографии шерстяных волокон.
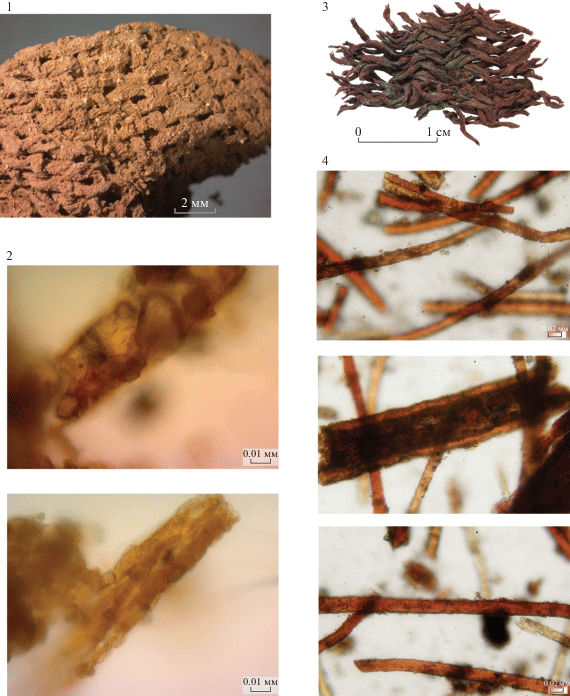
Чтобы минимизировать последствия этого допущения, даты обрабатывали в программе OxCal 4.3 с помощью “модели выбросов” (команда “Outlier_model”); для дат, полученных по образцам шерстяного текстиля, использовали параметры (Exp(1,–10,0),U(0,3), “t”) и p = 1, так же, как и для образцов древесины и угля; для других углеродсодержащих образцов использовали стандартные параметры (T(5), U(0,4), “t”) и p = 0.05.
Хотя такой подход далек от идеального решения, его использование – разумный компромисс при анализе новых радиоуглеродных данных и опубликованных ранее 14С-дат в рамках общего аналитического метода. Будущие исследования позволят проверить надежность такого подхода.
Полученные радиоуглеродные данные анализировали с использованием байесовского моделирования в программе OxCal 4.3 вместе с сопоставительной выборкой опубликованных AMS-данных по шерстяному текстилю и сопроводительных образцов из памятников Кавказа [25], Анатолии [26] и Западного Китая [27–29].
Это позволило включить в анализ археологические и географические данные и предложить модель хроно-пространственных фаз, а также оценить их соотношение.
Образцы шерстяного текстиля и кости животного были продатированы в Центре изотопных исследований Гронингенского университета, Нидерланды (10), текстиль и древесина – в Радиоуглеродной лаборатории Познанского университета (5), ЦКП “Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии” Института географии РАН совместно с Центром изотопных исследований Университета Джорджии, США (6), текстиль и кожа – в Лаборатории Оксфордского университета (2).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Новые радиоуглеродные AMS-данные, полученные по образцам шерстяного текстиля и других синхронных им углеродсодержащих материалов, позволяют впервые обсудить время появления и этапы распространения шерстяного волокна и тканей в Cеверной Евразии бронзового века.
Результаты радиоуглеродного AMS-датирования образцов шерстяного текстиля и сопроводительных других углеродсодержащих образцов, а также выборка сопоставительных 14С AMS-данных представлены в табл. 1 и на рис. 3. На рис. 4 радиоуглеродные данные, полученные по образцу из каждого памятника, наложены на карту Cеверной Евразии.
Таблица 1.
14C-данные шерстяного и смешанного (хлопок/шерсть) текстиля, кожи, костей животного, семян и древесины из памятников бронзового века Cеверной Евразии
| Лабораторный номер |
Образец | 14C-лет (BP) | ± | Интервал калиброванного возраста, ВС (немоделированный) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | до | % | с | до | % | δ13C, ‰ | δ15N, ‰ | |||||
| Турция, Арслан-тепе, ФАЗА I (A) | ||||||||||||
| Ua-18081 | Арслан-тепе, “Царская” гробница | 4355 | 65 | древесина | –3086 | –2900 | 68.2 | –3327 | –2879 | 95.5 | – | – |
| Северный Кавказ, майкопская культура, ФАЗА I (B) | ||||||||||||
| GrA-21334 | Царская, к. 2, п. 1 | 4200 | 60 | шерсть/хлопок | –2893 | –680 | 68.2 | –2910 | –2601 | 95.4 | –29.2 | – |
| GrM-24441 | Царская, к. 2, п. 1 | 4270 | 45 | Зуб оленя | –2925 | –2780 | 68.2 | –3018 | –2701 | 95.4 | –22.1 | 4 |
| Южный Кавказ, беденская культура, ФАЗА II (A) | ||||||||||||
| RTD-7520-A | Ананаури, к. 3 | 3922 | 15 | скорлупа ореха | –2470 | –2350 | 68.2 | –2474 | –2346 | 95.4 | – | – |
| IGANAMS-6418 | Курган Бедени | 3710 | 25 | шерсть (текстиль) | –2140 | –2039 | 68.2 | –2197 | –2030 | 95.4 | – | – |
| Восточно-европейские степи, катакомбная и бабинская культуры ФАЗА III (A) | ||||||||||||
| IGANAMS7004 | Ергени, к. 6, п. 3 | 3890 | 20 | древесина | –2456 | –2347 | 68.2 | –2464 | –2299 | 95.4 | – | – |
| Ua-21407 | Шахаевский 1, к. 4, п. 32 | 3745 | 45 | семена | –2268 | –2043 | 68.2 | –2291 | –2027 | 95.4 | –20.7 | – |
| Poz-111665 | Бугуруста, к. 5, п. 11 | 3715 | 35 | шерсть (текстиль) | –2194 | –2037 | 68.2 | –2206 | –1981 | 95.4 | – | – |
| Лесная зона Восточной Европы, ранняя поздняковская культура, ФАЗА III (B) | ||||||||||||
| IGANAMS-6138 | Борисоглебовский, п. 2 | 3715 | 20 | древесина | –2036 | –1951 | 68.2 | –2133 | –1921 | 95.4 | – | – |
| Poz-106316 | Борисоглебовский, п. 2 | 3640 | 30 | древесина | –2187 | –2042 | 68.3 | –2196 | –2034 | 95.4 | – | – |
| Лесная зона Восточной Европы, поздняя поздняковская культура, ФАЗА III (B1) | ||||||||||||
| Poz-106315 | Березовый рог, п. 20 | 3175 | 30 | шерсть (текстиль) | –1496 | –1421 | 68.2 | –1506 | –1402 | 95.4 | –23.8 | 6.8 |
| Среднее Поволжье & Западный Урал, срубная культура, ФАЗА IV (A) | ||||||||||||
| GrM-12260 | Алексеевский II, п. 8 | 3485 | 25 | шерсть (текстиль) | –1877 | –1761 | 68.2 | –1886 | –1703 | 95.4 | –28 | 8.3 |
| GrM-15221 | Герасимовский III, к. 1, п. 3 | 3400 | 20 | шерсть (текстиль) | –1739 | –1665 | 68.2 | –1746 | –1640 | 95.4 | –23.8 | 8.9 |
| IGANAMS-7216 | Герасимовский III, к. 1, п. 3 | 3355 | 20 | шерсть (текстиль) | –1681 | –1623 | 68.2 | –1734 | –1611 | 95.4 | – | – |
| OxA-39019 | Герасимовский III, к. 1, п. 3 | 3396 | 19 | кожа | –1737 | –1663 | 68.2 | –1745 | –1637 | 95.4 | – | – |
| Зауралье и Западный Казахстан, алакульская культура, ФАЗА IV (B) | ||||||||||||
| GrM-14811 | Алакульский, к. 27, п. 7 | 3485 | 20 | шерсть (текстиль) | –1877 | –1766 | 68.2 | –1882 | –1748 | 95.4 | –22.2 | 7.6 |
| GrM-14460 | Степное VII, комплекс 8, п. 2 | 3479 | 19 | шерсть (текстиль) | –1876 | –1751 | 68.2 | –1881 | –1745 | 95.4 | –23.8 | 6.2 |
| IGANAMS-5648 | Степное VII, комплекс 8 | 3440 | 25 | шерсть (текстиль) | –1860 | –1692 | 68.2 | –1877 | –1683 | 95.5 | – | – |
| IGANAMS-5647 | Степное VII, комплекс 8 | 3380 | 25 | зуб человека | –1730 | –1637 | 68.2 | –1743 | –1621 | 95.4 | – | – |
| AA-78374-78378 | Лисаковский, к. 1, п. 1 | 3445 | 40 | древесина | –1871 | –1691 | 68.2 | –1883 | –1662 | 95.4 | – | – |
| Poz-102983 | Ушкатинский I, к. 2, п. 7 | 3360 | 40 | шерсть (текстиль) | –1733 | –1613 | 68.2 | –1746 | –1531 | 95.4 | –22.9 | 7.2 |
| GrM-15222 | Черняки II, п. 13 | 3320 | 20 | шерсть (текстиль) | –1631 | –1545 | 68.2 | –1660 | –1530 | 95.4 | –23.3 | 6 |
| Восточный Казахстан и Синдзянь, алакульская и Сяохэ-Гумугоу, ФАЗА IV (C) | ||||||||||||
| GrM-15972 | Тундык | 3420 | 35 | шерсть (текстиль) | –1759 | –1664 | 68.2 | –1876 | –1627 | 95.4 | –21.5 | 9.3 |
| BA05805 | Сяохэ, M23 | 3415 | 40 | шерсть (войлок) | –1759 | –1645 | 68.2 | –1877 | –1622 | 95.4 | – | – |
| BA05798 | Сяохэ, M75:16 | 3365 | 40 | шерсть (войлок, шапка) | –1732 | –1616 | 68.2 | –1749 | –1532 | 95.4 | – | – |
| BA05802 | Сяохэ, M2:12 | 3360 | 40 | шерсть (войлок, шапка) | –1733 | –1613 | 68.2 | –1746 | –1531 | 95.4 | – | – |
| BA05801 | Сяохэ, M117 | 3355 | 40 | шерсть (накидка) | –1732 | –1611 | 68.2 | –1744 | –1531 | 95.4 | – | – |
| BA05791 | Сяохэ, M29:20 | 3225 | 30 | семена (пшеница) | –1520 | –1449 | 68.2 | –1607 | –1429 | 95.4 | – | – |
| BA05797 | Сяохэ, M292 | 3350 | 50 | шерсть (накидка) | –1732 | –1549 | 68.1 | –1749 | –1509 | 95.4 | – | – |
| BA05795 | Сяохэ, M2:18–7 | 3200 | 40 | семена (просо) | –1503 | –1433 | 68.2 | –1607 | –1404 | 95.4 | – | – |
| BA05796 | Сяохэ, M92:23 | 3290 | 40 | семена (просо) | –1616 | –1521 | 68.2 | –1664 | –1459 | 95.4 | – | – |
| BA05804 | Сяохэ, M23 | 3545 | 40 | семена (просо) | –1945 | –1779 | 68.2 | –2011 | –1756 | 95.4 | – | – |
| BA05793 | Сяохэ, M34:14 | 3240 | 40 | семена (просо) | –1602 | –1450 | 68.2 | –1612 | –1436 | 95.4 | – | – |
| BA05794 | Сяохэ,M2: 18-3 | 3305 | 40 | семена (пшеница) | –1626 | –1529 | 68.2 | –1684 | –1501 | 95.4 | – | – |
| BA05803 | Сяохэ, M17:12 | 3375 | 40 | семена (пшеница) | –1736 | –1624 | 68.2 | –1763 | –1534 | 95.4 | – | – |
| —* | Гумугоу | 3525 | 70 | древесина (гроб) | –1939 | –1755 | 68.2 | –2036 | –1665 | 95.4 | – | – |
| —* | Келияхе (некрополь N), н/о | 3306 | 29 | шерсть (веревка) | –1621 | –1533 | 68.2 | –1658 | –1507 | 95.4 | – | – |
| —* | Келияхе (некрополь N), н/о | 3315 | 26 | шерсть (войлок) | –1627 | –1534 | 68.2 | –1662 | –1521 | 95.4 | – | – |
| —* | Келияхе (некрополь N), н/о | 3239 | 29 | шерсть (войлок) | –1597 | –1453 | 68.2 | –1610 | –1439 | 95.4 | – | – |
| —* | Келияхе (некрополь N), н/о | 3302 | 56 | шерсть (войлок) | –1636 | –1509 | 68.2 | –1735 | –1450 | 95.4 | – | – |
| Южная Сибирь, федоровская культура (поздняя андроновская) & Лесная зона ВЕ, поздняя поздняковская – ФАЗА V | ||||||||||||
| Poz-102750 | Ужур, к. 47 | 3220 | 35 | шерсть (текстиль) | –1519 | –1443 | 68.2 | –1608 | –1422 | 95.4 | –22.0 | – |
| GrM-14458 | Ужур, к. 47 | 3313 | 19 | шерсть (текстиль) | –1624 | –1535 | 68.1 | –1639 | –1528 | 95.4 | –22.3 | 6.7 |
| GrM-14459 | Уйбат, п. 2 | 3121 | 19 | шерсть (текстиль) | –1427 | –1325 | 68.2 | –1436 | –1306 | 95.4 | –20.7 | 9.2 |
| OxA-38960 | Усть-Ерба | 3114 | 21 | шерсть (текстиль) | –1422 | –1320 | 68.2 | –1435 | –1302 | 95.4 | –21.7 | – |
* В публикации [28] лабораторный номер дат отсутствует.
Рис. 3.
Суммированная модель смоделированных калиброванных интервалов, демонстрирующая “фазы” распространения шерстяного текстиля и сопутствующих технологий с использованием OxCal v4.3.2 [22].
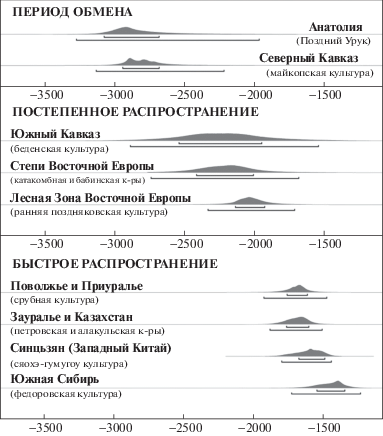
Для обеспечения робастности применяемого метода анализа построена байесовская модель с использованием данных по фазам (команда “phase”) с разбивкой по географическим регионам. Никаких предварительных допущений о хронологическом порядке фаз не применялось. Хронологическое соотношение моделируемых дат ниже “границ” каждой фазы (команда “boundary”) статистически проверены с помощью функции “различия” (“difference”) на основе аналогичного подхода [30]. В описании результатов использованы смоделированные даты образцов и общее распределение вероятности “дат” (функция “Date”) по каждой фазе.
ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты демонстрируют четкую хронологическую, достаточно долгую последовательность и коррелируют с относительной хронологией культур Cеверной Евразии, носители которой распространяли инновационную технологию производства шерстяных тканей из одного региона в другие: степные культуры передали ее культурам лесной зоны Восточной Европы и далее – лесостепным и степным регионам Поволжья и Приуралья, вплоть до Казахстана, Синьцзяна и Южной Сибири (табл. 2).
Таблица 2.
Смоделированные калиброванные интервалы для полученных географических фаз (функция “Date”)
| Смоделированная калиброванная дата (до н.э.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | % | от | до | % | |
| Анатолия | –3075 | –2675 | 68.2 | –3275 | –1950 | 95.4 |
| Майкоп | –2950 | –2650 | 68.2 | –3125 | –2200 | 95.4 |
| Южный Кавказ | –2550 | –1925 | 68.2 | –2900 | –1525 | 95.4 |
| Степная зона Восточной Европы | –2425 | –2000 | 68.2 | –2750 | –1675 | 95.4 |
| Лесная зона Восточной Европы | –2150 | –1900 | 68.2 | –2325 | –1700 | 95.4 |
| Поволжье и Приуралье | –1775 | –1600 | 68.2 | –1925 | –1475 | 95.4 |
| Зауралье и Казахстан | –1775 | 1600 | 68.2 | –1900 | –1500 | 95.4 |
| Синьцзян | –1675 | –1500 | 68.2 | –1800 | –1425 | 95.4 |
| Южная Сибирь | –1550 | –1325 | 68.2 | –1750 | –1225 | 95.4 |
Самый ранний шерстяной текстиль в составленной базe данных – это фрагмент из позднемайкопского погребения Северного Кавказа. Он датируется 2910–2600 годами до н.э. (GrA-21334) и соотносится с радиоуглеродными данными, полученными по кости животного из этого же погребения (GrA-24441) [31].
Дата по этому фрагменту текстиля также соотносится с 14С-датой, полученной для комплекса с шерстяной тканью из “Царской гробницы” Арслан-тепе в Анатолии [2, 26]. Однако фрагмент ткани из Северного Кавказа сделан из смешанных шерстяных и хлопковых нитей. Этот фрагмент текстиля не местный, привозной; его происхождение может быть связано с кругом культур юго-восточных регионов Переднего Востока и, возможно, культур, расположенных еще южнее. Самый ранний фрагмент текстиля из хлопка, датирующийся примерно VI тыс. до н.э., найден в памятниках равнины Качи в Белуджистане; в северной Аравии и в Леванте хлопок в качестве текстильного сырья использовался, начиная с IV тыс. до н.э. [32, 33]. На Кавказе в это время известны ткани только изо льна или других диких растительных лубяных растений [14, 34, 35].
Предпочтение использования растительного волокна в текстильном производстве, а также хронологический разрыв между 14С-датой смешанного хлопково-шерстяного текстиля из майкопского захоронения в Царской и другими 14С-датами шерстяного текстиля и материалов из памятников Кавказа подчеркивает отсутствие устойчивой технологической традиции производства шерстяного текстиля в этом регионе в то время. Только позже, спустя несколько столетий, технология производства тканей из нового сырья вышла за пределы юго-западной Азии и Анатолии. Даты по скорлупе ореха из могильника Ананаури кургана 3 (2470–2350 гг. до н.э., RTD-7520-A) [25] и шерстяной ткани из могильника Бедени (2140–2040 гг. до н.э., IGANams-6418) показывают временной интервал распространения этой технологии на Южном Кавказе. Даты по образцам из могильников Ергени, Шахаевская и Бугуруста в Калмыкии и в Нижнем Подонье, где шерстяные ткани датируются интервалом 2400–2000 гг. до н.э. (68%), указывают, что распространение этой технологии в степной зоне Восточной Европы происходило практически синхронно.
Это позволяет высказать предположение, что степняки контактировали с южными соседями, возможно, заимствуя у них технологические текстильные навыки и новое сырье. Отметим, что на Южном Кавказе продолжали выращивать лен, который использовался как сырье наравне с шерстью. Ткани этого времени в степи – чистошерстяные.
В районах, расположенных севернее, четко наблюдается устойчивая тенденция распространения раннего шерстяного текстиля. Образцы шерсти из ранних поздняковских (могильник Борисоглебовский) погребений лесной зоны Восточной Европы датируются около 2150–1900 гг. до н.э. (68%). В районах, расположенных к востоку, распространение шерстяного волокна имело скачкообразный характер. Весь шерстяной текстиль срубной и алакульской культур в степной зоне Поволжья, Приуралья, Зауралья и Казахстана попадает в интервал 1925–1475 гг. до н.э. (95%) или 1775–1625 гг. до н.э. (68%). Даты по раннему текстилю соседних регионов Синьцзяна (Западный Китай) почти синхронны степным датам и попадают в близкий интервал 1675–1500 гг. до н.э. (68%) или 1800–1425 гг. до н.э. Даты по федоровскому (позднему андроновскому) текстилю Южной Сибири попадают в интервал 1550–1325 гг. до н.э. (68%) или 1750–1225 гг. до н.э. (95%).
Таким образом, на основании новых 14С-данных фиксируется траектория продвижения технологии изготовления шерстяного волокна с юга на север. Происходит ассимиляция новых навыков в среде, где уже в III тыс. до н.э. основой экономики становится подвижное пастушество, в составе стада присутствуют и козы, и овцы [15, 36], и появляется продукт вторичных производств – шерстяное волокно.
В конце III тыс. до н.э. новое текстильное сырье и шерстяные ткани быстро распространяются далее на север в лесостепную и лесную зоны. Это привело к тому, что в течение 250 лет технология производства шерстяных тканей была быстро интегрирована в экономику культур Cеверной Евразии, распространившись далее на восток – на Урал, Казахстан и Южную Сибирь. Имеющиеся 14C-данные, полученные по фрагментам шерстяного текстиля и войлока из памятников культуры Сяохэ-Гумугоу [29], свидетельствуют о быстром распространении этой технологии далеко на восток, вплоть до Китая. Шерстяной текстиль в Синьцзяне появился чуть позже, чем на Южном Кавказе, в степной катакомбной культуре, лесной зоне Восточной Европы, однако китайские шерстяные ткани синхронны алакульскому и срубному текстилю Поволжья, Приуралья и Казахстана.
Таким образом, полученные 14С AMS-даты четко фиксируют основную географическую тенденцию распространения шерстяного волокна с севера на юг и далее – с запада на восток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Радиоуглеродное датирование шерстяного текстиля эпохи бронзы и сопровождающих синхронных иных углеродсодержащих материалов позволило определить траекторию и хронологию распространения нового текстильного сырья – шерстяного волокна и технологию производства тканей. Полученные хронологические фазы и сопоставительный анализ с данными вспомогательной выборки (14С-датами из памятников Анатолии, Южного Кавказа и Китая) свидетельствуют о существовании культурного и технологического обмена между регионами Переднего Востока и Кавказа и особой роли степных групп второй половины III тыс. до н.э. (нескольких поколений ткачей) в быстром распространении новой технологии (рис. 3, 4). Можно предложить следующие хронологические и общие исторические этапы этого процесса:
– после 3300 гг. до н.э. происходит обмен престижными изделиями между группами передневосточной культурной среды и группами Северного Кавказа, благодаря которому в одном из элитных погребений появляется смешанный текстиль из шерсти и хлопка, который датируется примерно 2910–2600 гг. до н.э.;
– в середине III тыс. до н.э. происходит распространение шерстяного текстиля и сопутствующих экономических стратегий за пределы Переднего Востока/Анатолии – на Южный Кавказ; по полученным датам по фрагментам текстиля и синхронных материалов это происходит в 2550–1925 гг. до н.э.; почти такой же интервал получен по датам северных степных регионов, что позволяет утверждать, что распространение инновационной технологии из Южного Кавказа в степную зону и далее на север вплоть до лесной зоны происходит в 2450–1900 гг. до н.э.;
– в интервале 1925–1775 гг. до н.э. произошло быстрое распространение технологии производства шерстяного волокна (и сопутствующих технологий) через степь и лесостепь на Волгу, Южный Урал, Казахстан, вплоть до Китая. Между 1700–1225 гг. до н.э. произошло последовательное распространение новой технологии через степной пояс на западный Алтай, Саяны и Южную Сибирь.
Группы ремесленников-ткачей Кавказа и прилегающей степи (круг синхронных беденской и катакомбной культур) разделяли многие экономические стратегии и благодаря разветвленной обменной сети второй половины III тыс. до н.э. стимулировали продвижение технологических навыков, связанных с производством шерстяного волокна и тканей. Примерно в течение 200 лет в этих регионах распространился вторичный продукт, связанный с новым характером использования животных, в первую очередь овец и коз, – шерстяное волокно. Неизвестно, появились ли животные, руно которых можно было уже прясть, в результате многоступенчатого обмена с южными соседями или это стало результатом селекции пастухов катакомбной культуры. Однако очевидно, что в степи производство шерстяных тканей было очень локальным, практически домашним производством.
Быстрое распространение новых технологических навыков произошло в начале II тыс. до н.э. и связано со срубными ремесленниками-ткачами Среднего Поволжья, Урала, алакульскими Приуралья и Зауралья, Cеверного Казахстана и федоровскими Южной Сибири.
К середине II тыс. до н.э. через степную и лесостепную зоны Cеверной Евразии – от Кавказа и прилегающей степи до Казахстана – протянулся “Шерстяной путь” с разветвленной сетью многоступенчатого многокультурного обмена, объединивший разнокультурные группы западных, восточных, северных и южных регионов предгорной, полупустынной, степной, лесостепной, лесной зон Cеверной Евразии.
Вероятно, параллельное распространение инновационной технологии производства шерстяного волокна проходило намного южнее в ином культурном окружении Западной и Центральной Азии [37].
По-видимому, появление в Таримском бассейне Китая одежды из шерсти является подтверждением существования с начала II тыс. до н.э. “Шерстяного пути”, объединившего регионы Cеверной Евразии. Синхронность шерстяных деталей одежды срубной и алакульской культур Поволжья, Приуралья, Казахстана и одежд индивидов из Синьцзяна, а также сравнительный анализ, демонстрирующий близкий технологический уровень производства китайского шерстяного текстиля и текстиля евразийских степных и лесных зон, позволяют высказать предположение, что их происхождение могло быть связано с одним и тем же культурным и технологическим ареалом/ареалами.
Ремесленники-ткачи используют красители красных оттенков, близкий дизайн сложных и простых головных уборов, украшенных перьями и другими органическими материалами [38, 28 ], и комбинированных деталей одежды из шерсти, меха и кожи.
Текстильные изделия Южного Кавказа второй половины III тыс. до н.э. характеризуются использованием комбинированных шерстяных и растительных волокон и другими технологическими характеристиками [34].
Таким образом, проведенное исследование определяет четкую пространственно-временную закономерность возникновения и быстрого распространения шерстяного текстильного производства по всей Cеверной Евразии и предлагает новое понимание процессов, лежащих в основе этой трансформации.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-09-00015), European Union’s Horizon 2020 research и инновационной программы (грант № 670010 (FLAME)).
Список литературы
Barber E.J.W. Prehistoric textiles. Princeton: Princeton University Press, 1992. 504 p.
Frangipane M., Strand A., Laurito R. et al. // Paleorient. 2009. № 35.1. P. 5.
Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400 / Eds. Gleba M., Mannering U. Oxford: Oxbow Books, 2012. 470 p.
Jørgensen L.B. North European textile until AD 1000. Aarhus: Aarhus University Press, 2015. 285 p.
Becker C., Benecke N., Grabundžija A. et al. // Topoi J. Ancient Studies. 2016. № 6. P. 102.
Azemard C., Zazzo A., Marie A. et al. // J. Archaeol. Sci. 2019. № 110. P. 1.
Ryder M.L. // Oxford J. Archaeol. 1993. № 12 (3). P. 305.
McCorriston J. // Curr. Anthropol. 1997. № 38. P. 517.
Good I. // The Bronze Age and Early Iron Age peoples of eastern Central Asia / Ed. Mair V. V. 2. Pennsylvania: University of Pennsylvania Museum Publications, 1998. P. 656.
Good I.L. The Ecology of Exchange: Textiles from Shahr-I-Sokhta, Eastern Iran. ProQuest Dissertation of Theses. Philadelphia. 1999.
Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennnia BC / Eds. Michel C., Nosch M.-L. V. 8. Oxford: Oxbow Books, 2010. 326 p.
Firth R. // Prehistoric, ancient Near Eastern and Aegean textiles and dress. An interdisciplinary anthology. Ancient textile series / Eds. Harlow M. et al. 2014. V. 18. P. 57.
Kvavadze E., Sagona A., Martkoplishvili I. et al. // J. Archaeol. Sci. Rep. 2015. № 2. P. 235. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.02.003
Shishlina N.I., Orfinskaya O.V., Golikov V.P. // Oxford J. Archaeol. 2003. № 22 (4). P. 331. https://doi.org/DOI 10.1046/j.1468-0092
Shishlina N.I. Reconstruction of the Bronze Age of the Caspian steppes. Life styles and life ways of pastoral nomads (British Archaeological Reports international series 1876). Oxford: Archaeopress, 2008. 299 p.
Куприянова Е.В., Таскаев С.В. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2018. № 2 (41). С. 17.
Орфинская О.В., Голиков В.П., Шишлина Н.И. // Текстиль эпохи бронзы Евразийских степей. Тр. ГИМ. Вып. 109. Отв. ред. Н.И. Шишлина. М.: ГИМ, 1999. С. 58.
Shishlina N., Golikov V., Orfinskaya O. // BAR Series. № 890. Oxford: Archaeopress, 2000. P. 109.
Shishlina N., Orfinskaya O. // Archaeological Textiles Newsletter. 2005. № 40. P. 6.
Азаров Е.С., Пожидаев В.М., Шишлина Н.И. и др. // Краткие сообщения Института археологии. 2016. № 244. С. 391.
Шишлина Н.И., Орфинская О.В., Петрова Н.Ю., Кузнецова О.В. // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в Евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). Отв. ред. Л. Б. Кирчо. СПб.: ИИМК, С. 257. https://doi.org/10.31600/978-5-907053-34-2-257-258
Bronk Ramsey C. // Radiocarbon. 2009. № 51 (1). P. 337.
Reimer P. J., Bard E., Bayliss A. et al. // Radiocarbon. 2013. № 55(4). P. 1869.
von Holstein I.C.C., Rogers P. W., Craig O.E. et al. // PLoS ONE. 2016. № 11 (10). P. e0162330. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162330.
Boaretto E., Lev R., Regev L. et al. // Ananauri Big Kurgan 3. Tbilisi: Tbilisi Georgian National museum, 2016. P. 284.
Frangipane M., Di Nocera G.M., Hauptmann A. et al. // Paleorient. 2001. V. 27. № 2. P. 105.
Flad R., Li S., Wu X. et al. // Holocene. 2010. № 17. P. 555.
Mallory J.P., Mair V.H. // The Tarim Mummies. London: Thames & Hudson. 2000. 352 p.
Wang B. // Archaeological Culture of the Peacock River Bronze Age. The Bronze Age of the Peacock River / Ed. Wang B. Beijing: Science Press, 2017. P. 3.
Long T., Leipe C., Jin G. et al. // Nature Plants. 2018. № 4. P. 272.
Trifonov V., Shishlina N., Chernova O. et al. // Paleorient. 2019. № 45. № 1. P. 69.
Betts A., van der Borg K., de Jong A. et al. // J. Archaeol. Sci. 1994. № 21. P. 489.
Moulherat Ch., Tengberg J., Mille B. // J. Archaeol. Sci. 2002. № 29. P. 1393.
Kalandadze N., Sakhvadze E., Makharadze Z. et al. // Ananauri Big Kurgan 3. Tbilisi: Tbilisi Georgian National museum. 2016. P. 127.
Kvavadze E., Narimanishvili G., Bitadze L. // Vegetation History and Archaeobotany. 2010. № 19. P. 479.
Kosintsev P.A. // Material culture of the Samara river basin population during the Bronze Age / Eds. Kolev Yu.I., Kuznetsov P. F., Mochalov O.D. Samara: Izdatelstvo SamGPU, 2003. P. 126.
Good I. // Companion to the Archaeology of Ancient Near East / Eds. Potts D.N. et al. V. I. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. P. 336.
Wieczorek A., Lind Ch. // Ursprünge der Seidenstrase. Sensationelle Neufunde aus Xinjiang, China. Stuttgart: Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. 2007. 320 p.
Дополнительные материалы отсутствуют.
Инструменты
Российские нанотехнологии