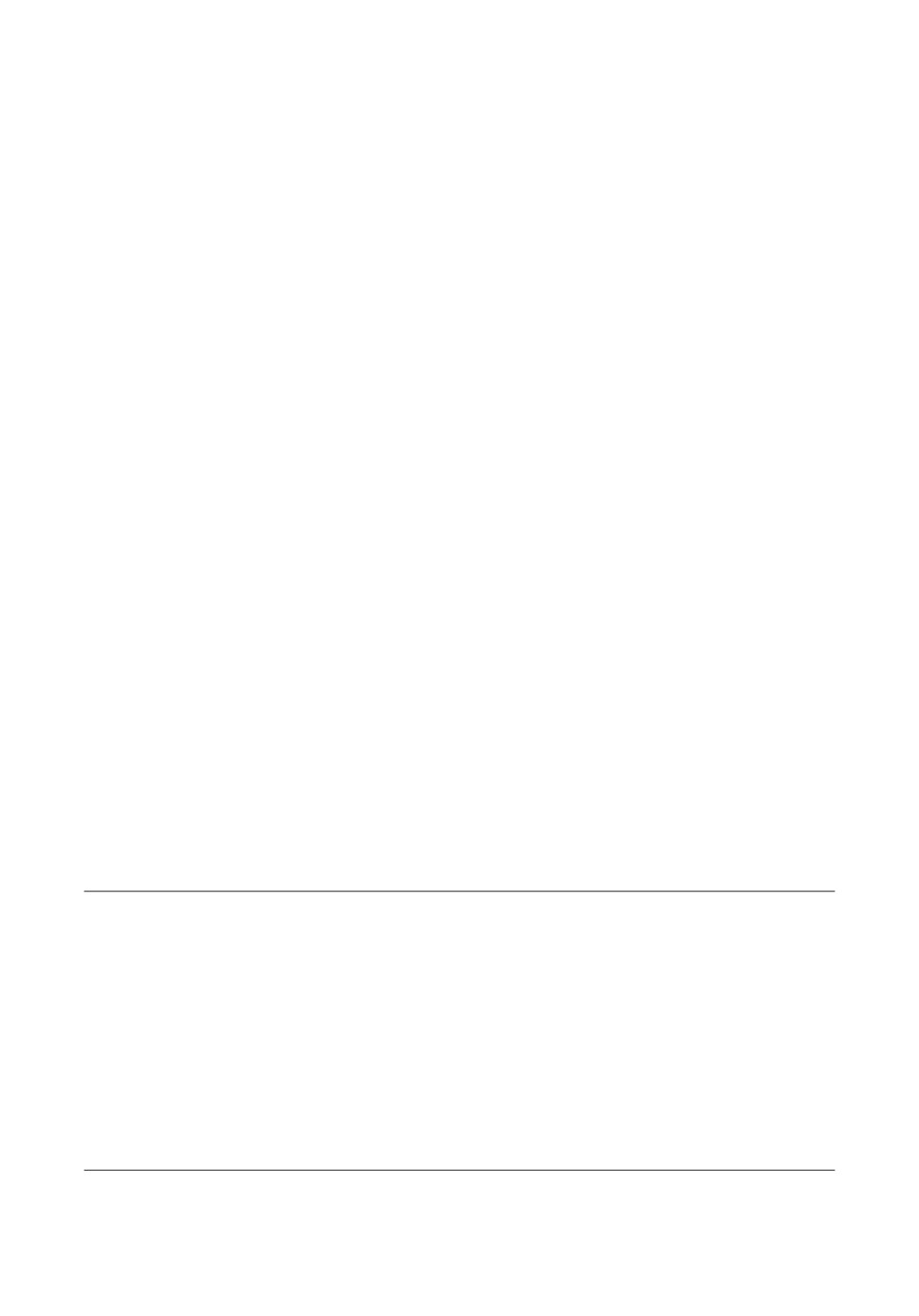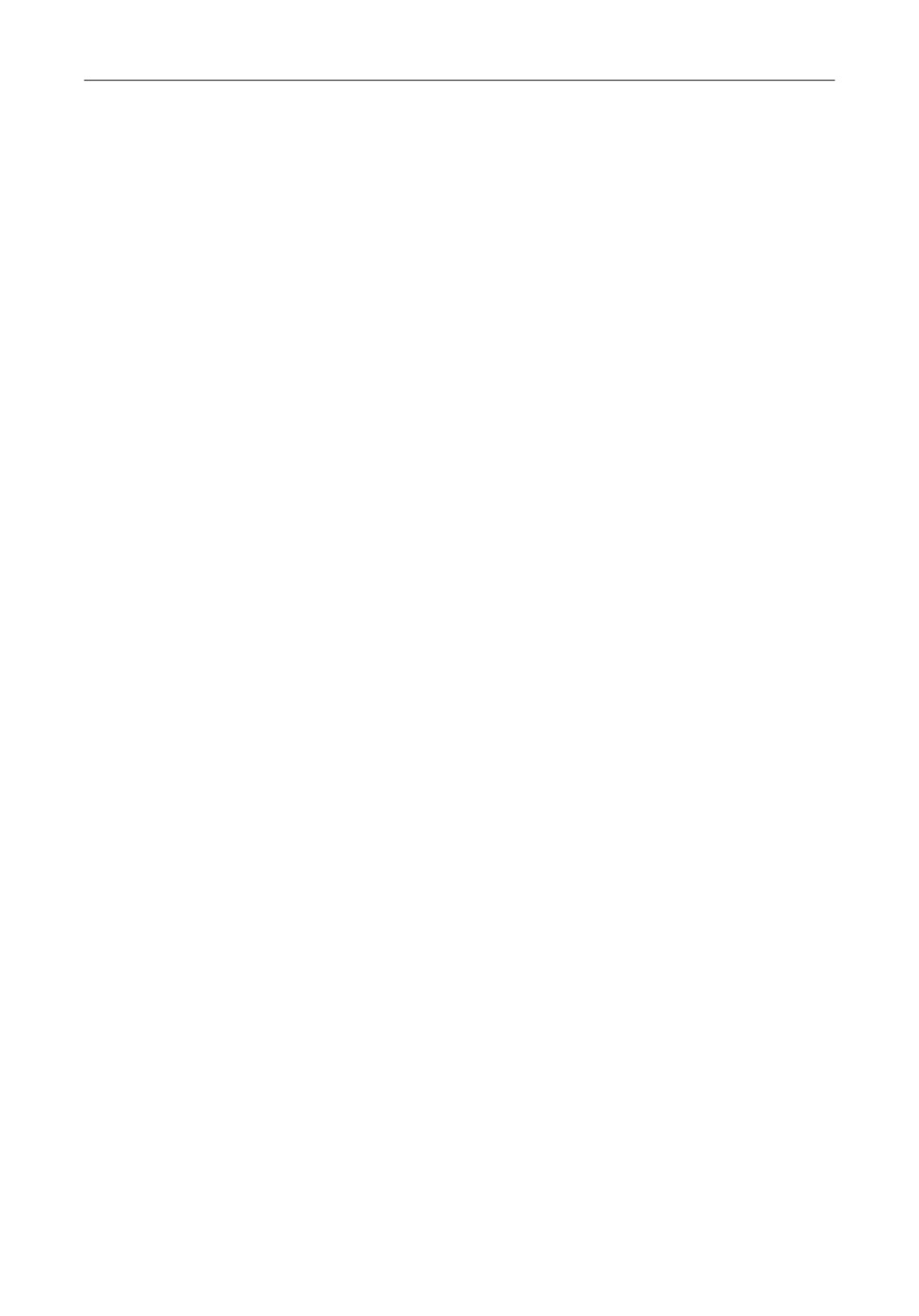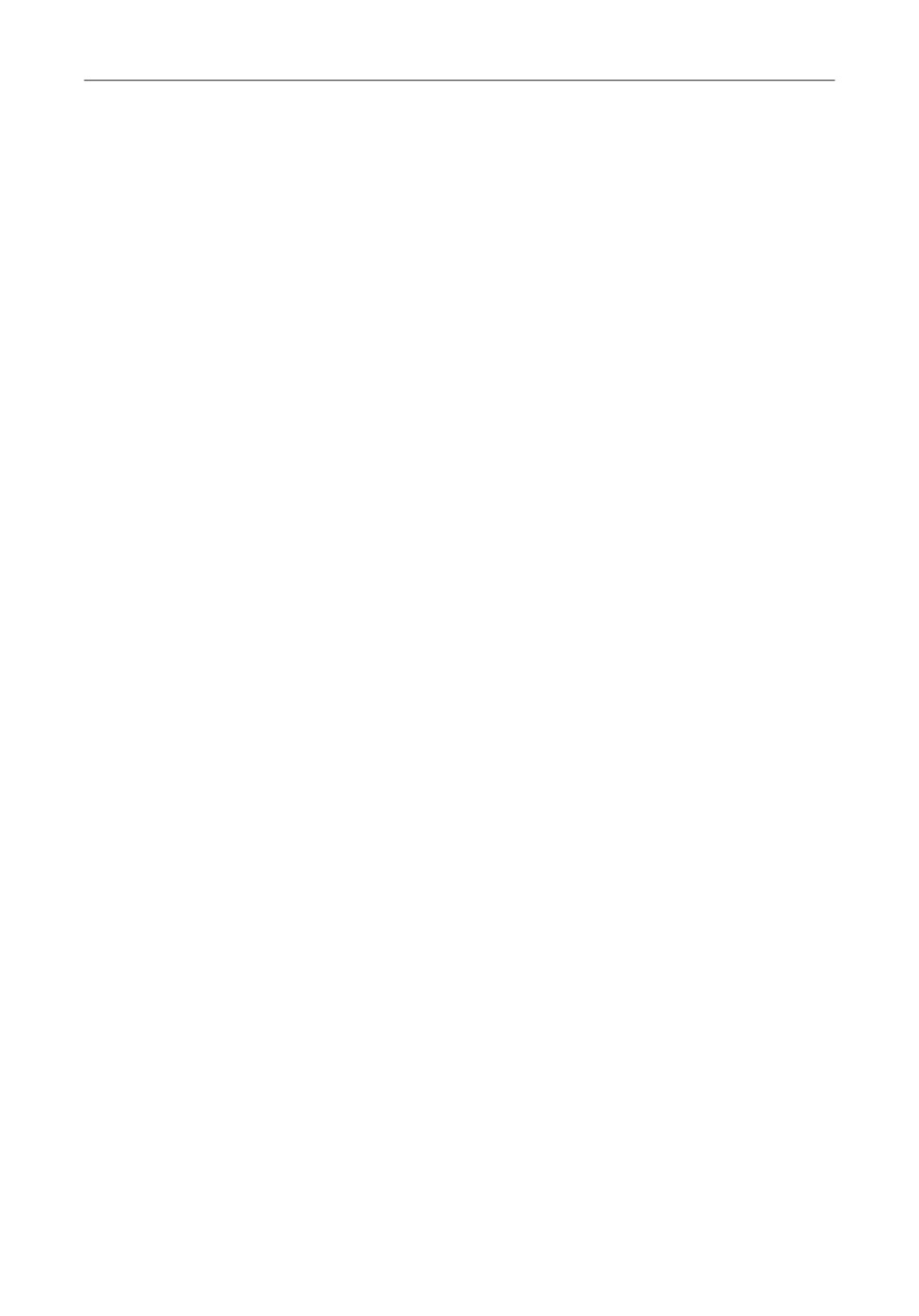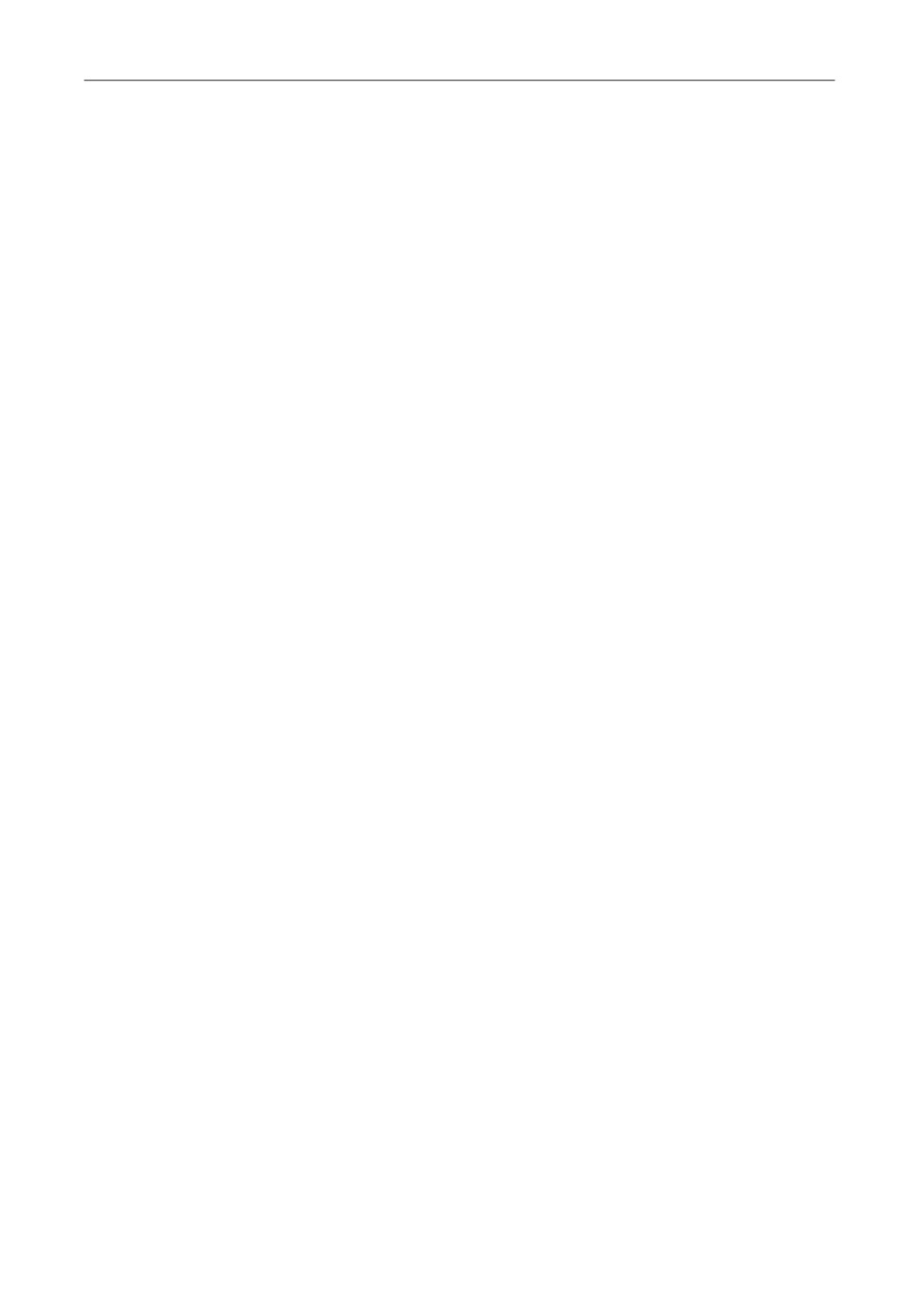СИММЕТРИЧНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ:
ОТ КУЛЬТУР К КОЛЛЕКТИВАМ МОБИЛЬНОСТЕЙ
В ОПИСАНИИ “БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ”
А.Г. Кузнецов
к. социол. н., научный сотрудник Центра исследований науки и технологий | Евро-
пейский университет в Санкт-Петербурге (ул. Гагаринская 6/1a, Санкт-Петербург,
191187, Россия) | аналитик Центра научной коммуникации | Национальный иссле-
довательский университет ИТМО (Кронверкский пр. 49a, Санкт-Петербург, 197101,
Россия)
Ключевые слова
беспилотные автомобили, высокоавтоматизированные транспортные средства, симме-
тричная антропология, онтологический поворот, Бруно Латур, исследования мобильно-
стей, исследования науки и технологий, акторно-сетевая теория, антропология техники
Аннотация
Статья посвящена анализу “беспилотных автомобилей” в перспективе симметричной
антропологии. В теоретическом плане работа находится на пересечении исследований
мобильностей и исследований науки и технологий, а в эмпирическом - фокусируется
на публичных дискуссиях по поводу разработки и тестирования “беспилотных автомо-
билей”. Автор эксплицирует специфику подхода симметричной антропологии, предло-
женного Бруно Латуром как расширение исследований наук и технологий. Рассматри-
вается потенциал симметричной антропологии для трансформации ключевых понятий
“мобильности” и “культуры мобильностей”. Далее на эмпирических примерах демон-
стрируется значение этих трансформаций для изучения “беспилотных автомобилей”.
Понятие “беспилотные автомобили” подвергается критике с целью рефокусировки
описаний на материалах и энергиях форм движения этой технологии. Автор предлагает
перейти от понятия “культуры мобильностей” к понятию “коллективы мобильностей”,
чтобы исследовать множественность, локальность, альтернативность и культивацию
форм движения за пределами дихотомии культура-природа.
Информация о финансовой поддержке
Статья поступила 11.11.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 20.01.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам мобильно-
стей в описании “беспилотных автомобилей” // Этнографическое обозрение. 2022. № 1. С. 9-29.
Kuznetsov, A.G. 2022. Simmetrichnaia antropologiia tekhnologii: ot kul’tur k kollektivam mobil’nostei
v opisanii “bespilotnykh avtomobilei” [Symmetrical Anthropology of Technologies: From Cultures to
Collectives of Mobilities in the Description of “Self-Driving Cars”]. Etnograficheskoe obozrenie 1: 9-29.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
10
Этнографическое обозрение № 1, 2022
последние 20 лет в социальных науках сформировалась междисципли-
нарная область - исследования мобильностей. Отправляясь от пионер-
В
ских работ Джона Урри (Урри 2012a, 2012б), антропологи, социологи,
гуманитарные географы, историки сначала обнаружили, что им доступ-
но изучение движения не только в виртуальном социальном пространстве,
которое в начале XX в. изобрел Питирим Сорокин (Сорокин 2005 [1927]),
но и в физическом пространстве. Движение в физическом географическом
пространстве - социальный феномен. Затем исследователи пришли к тому,
что режимов движения в пространстве может быть много (Vannini 2009b;
Возьянов и др. 2017). Об этом говорит небольшое изменение в терминологии.
Вместо мобильности в единственном числе говорят о мобильностях во мно-
жественном. Дискурс о культурах мобильности - один из способов думать
о множественности мобильностей (Jensen 2009a; Vannini 2009a, 2010). При
этом вне зависимости от того, идет ли речь об авто-, вело- или пешеходной
мобильности, движение, как правило, переплетено с технологиями (Vannini
2012). Дискуссия о мобильных культурах оказывается тесно связана с ана-
лизом технокультур. Здесь исследования мобильностей вступают в диалог с
другой междисциплинарной областью - исследованиями наук и технологий
(Science and Technology Studies, STS).
STS возникли на 20 лет раньше, в конце 1970-х годов, и проделали путь,
подобный траектории исследований мобильности. Они начались с сильного
утверждения, что социальные ученые могут изучать не только контекст (ин-
ституты, организации, социально-политическую среду), но и само содержание
научного знания вне зависимости от его (не)истинности (Bloor 1991 [1976]).
Социальные исследования содержания научного знания вскоре привели к от-
крытию: есть не наука - в единственном числе, а науки - во множественном.
Существует множество культур производства знания, дифференцированных
исторически и синхронически, внутри и за пределами Запада. В связи с этим
стали говорить о культурах науки. Пока не столь важно, подразумеваются ли
под этим исторически и социально контингентные системы классификации
(Bloor 1991 [1976]) или куда более локальные культуры практик и инструмен-
тов (Latour, Woolgar 1986; Pickering 1992). Важны две вещи: 1) STS и исследо-
вания мобильностей сначала открывают для себя доступ к ранее недоступным
и немыслимым объектам, а затем мультиплицируют их; 2) в обоих случаях в
центре внимания оказывается антропологическая проблематика - дискуссия о
культурах и отношениях между ними.
Эта статья в теоретическом плане располагается на пересечении исследо-
ваний мобильностей и STS, а в эмпирическом - фокусируется на публичных
дискуссиях по поводу разработки и тестирования “беспилотных автомобилей”
(БА). Мне интересно исследовать контроверзы вокруг разработки и тестиро-
вания БА в связи с вышеприведенной антропологической проблематикой. Для
этого я сначала опишу подход симметричной антропологии, предложенный как
расширение STS. Затем покажу, что этот подход меняет в понимании мобильно-
стей вообще и мобильностей БА в частности, и, наконец, - как следует транс-
формировать понятие “культуры мобильностей”, чтобы оно было продуктивно
для описания мобильных коллективов БА.
STS: от культурного релятивизма
к реляционизму симметричной антропологии
STS начались с Эдинбургской школы, которая использовала ресурсы антро-
пологии для разработки сильной программы в социологии научного знания.
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
11
Для ее главного представителя, Дэвида Блура, сильная программа была расши-
рением с дописьменных обществ на современные тезиса Дюркгейма-Мосса о
социальном происхождении классификаций и логических категорий. С одной
стороны, Блур опирался на успешное развитие этого тезиса в работах антро-
пологини Мэри Дуглас (Bloor 1978), а с другой - само это расширение стало
возможным благодаря его оригинальной интерпретации сетевой модели науки
философки Мэри Хессе (Bloor 1975, 1982; Кузнецов 2020). Сильная программа
социологии знания представляла собой переориентацию антропологического
взгляда с других культур на самое сердце культуры Запада - научное знание.
Для Блура этот маневр был всего лишь продолжением научной (если не сказать
сциентистской) позиции антропологии и социологии:
Если бы социологию нельзя было всесторонне применить к научному знанию, это означало
бы, что наука не могла бы знать себя научно. Тогда как знание других культур и ненаучные
элементы нашей собственной культуры могут быть познаны с помощью науки, c самой нау-
кой, как ни странно, нельзя обращаться таким же образом. Это бы сделало ее специальным
случаем, постоянным исключением из всеобщности ее собственных процедур (Bloor 1991
[1976]: 46).
Выступая за такую рефлексивную антропологию, Блур рассматривает зна-
ние как институт (Bloor 1973) или культуру, а не опыт (Bloor 1991 [1976]: 16).
Этот общий тезис специфицируется в нескольких кейс-стади. Например, эпи-
стемологические споры между сторонниками Томаса Куна и Карла Поппера
он увязывает с противостоянием Романтизма и Просвещения - двух идеоло-
гических комплексов, глубоко укорененных в культуре Запада (Ibid.: 55-84).
К исследованию альтернативных математик Блур рекомендует подходить так
же, как антрополог подходит к изучению моральных систем, устоявшихся в
жизни различных культур (Ibid.: 109, 116). Более того, он также принимает
участие в антропологической дискуссии об (ил)логичности или (ир)рацио-
нальности культуры Азанде (Ibid.: 131-157). В дальнейшем Блур, опираясь
на теорию решетки-группы Дуглас, развивает свою социальную теорию зна-
ния (Bloor 1978, 1983).
Все это показывает, что антропологическая проблематика с самого нача-
ла была в центре внимания STS. И неудивительно, что представители Эдин-
бургской школы довольно быстро были втянуты в бесконечные и непродуктив-
ные споры о (культурном) релятивизме и рационализме и быстро увязли в них
(Hollis, Lukes 1982; Brown 1984). Эта полемика не только затушевала ориги-
нальную попытку Блура обновить социологию знания с помощью психологиче-
ского эмпиризма (Bloor 1975; Кузнецов 2020), но и утопила сильную программу
в ее собственном релятивизме.
Далее я не буду рассматривать тонкости дискуссий о рационализме и ре-
лятивизме, а переключусь на другую попытку извлечь уроки из антрополо-
гии и сблизить ее с STS. Бруно Латур, известный как автор акторно-сетевой
теории, однако, с самого начала называл свой подход антропологией наук и
технологий (Latour, Woolgar 1986; Latour 1981). На первом этапе его страте-
гия была похожа на блуровскую. Опираясь на опыт сотрудничества с Марком
Оже в Кот-д’Ивуаре, где Латур изучал чернокожих инженеров (Latour 1974),
он обратил антропологический взгляд на практики нейроэндокринологиче-
ской лаборатории в Сан-Диего (Latour, Woolgar 1986).
Выражение “антропология науки” определяло четыре критерия, на кото-
рые ориентировалось исследование, опубликованное в книге “Лабораторная
жизнь”:
1. Этнография как способ сбора и представления эмпирических материалов.
12
Этнографическое обозрение № 1, 2022
В фокусе исследования были рутинные аспекты лаборатории и отдельное “пле-
мя” ученых, практикующее их.
2. Продолжительное включенное наблюдение как способ нивелировать
зависимость антрополога науки от объяснений этой науки самими учеными.
Внешние наблюдатели довольствуются лишь объяснениями, поставляемыми
им учеными, и потому полностью зависимы от их языка. Включенное же на-
блюдение позволяет сопоставить описание действительного хода исследова-
ния с описаниями его результатов в публикациях и объяснениях для аутсайде-
ров, описаниями, которые очищены от практик и инструментов, сделавших их
возможными. Антропологический подход, таким образом, не только выявляет
ремесленный характер науки, но ставит оригинальный исследовательский во-
прос: как во многом хаотичные лабораторные практики трансформируются в
систематические и вычищенные исследовательские отчеты? Процесс построе-
ния порядка из хаоса Латур называет конструированием, а динамическую тра-
екторию материальных и дискурсивных трансформаций - сетью.
3. Антропологическое остранение, или агностицизм, как способ выне-
сти за скобки знакомство с лабораторией и избавиться от некритического
отношения к ней. Предварительная социализация в локальной культуре ла-
боратории не считается залогом успешного исследования. Повествование в
“Лабораторной жизни” ведется от лица наблюдателя, имеющего антрополо-
гическую подготовку, но несведущего в нейроэндокринологии. Остраненное
рассмотрение непроблематичных для ученых активностей позволяет деэк-
зотизировать и деметрополизировать науку, а не полагать априорно, что ее
практики более рациональны, чем практики других акторов.
4. Рефлексивность как способ осознать подобие методов ученых и антро-
пологов науки. Дебаты о научности социальных и гуманитарных наук спро-
воцированы ошибочным представлением о практиках естественных наук
(Ibid.: 27-33).
Суммируем. Антропологический подход позволяет исследователю науки
занять одновременно позицию и инсайдера (этнография и включенное наблю-
дение), и аутсайдера (агностицизм и рефлексивность) (Ibid.: 43-45). Благодаря
этому можно если не сообщить что-то новое самим ученым, то определенно
изменить представление различных публик (за пределами узкого круга сотруд-
ников лаборатории) о природе научной креативности (Ibid.: 30-31). Так антро-
полог выступает дипломатом, связывающим эзотерические профессии между
собой и с другими гетерогенными публиками.
Хотя стратегия Латура на этом этапе подобна антропологической рефлек-
сивности Блура, уже здесь обнаруживаются существенные отличия. Блур берет
у антропологии теории и концепты и применяет их в готовом виде к привыч-
ным материалам социологов и историков науки. Латур же заимствует modus
operandi антропологии, способы сбора и организации эмпирических материа-
лов, манеру настройки исследовательского фокуса.
Поначалу небольшие различия между сильной программой Блура и ан-
тропологией наук и технологий Латура постепенно накапливались и наи-
более полно проявились в книге “Нового времени не было” (Латур 2006).
Здесь Латур предлагает симметричную сравнительную антропологию как
способ обновить и расширить STS. Он называет STS исследованиями сетей
или переводов, или медиаций. Эти исследования фокусируются на квазиоб-
ъектах, или гибридах, которые пересекают границы различных дисциплин.
Поэтому их результаты, рассмотренные в перспективе этих дисциплин, вы-
зывают непонимание. “[Е]сли то, что вы исследуете, проходит сразу через
три эти области [эпистемология, социология, науки о тексте], вас уже больше
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
13
не понимают” (Там же: 64). Очевидно, что ни эпистемология, ни социоло-
гия, ни дискурс-анализ не могут быть моделями для дальнейшего развития
STS, так как они разрезают сети, а не трассируют их. Тогда перед STS встает
дилемма: либо отказаться от исследования сетей и вернуться в прокрустово
ложе устоявшихся дисциплин, либо искать помощи где-то еще.
Эта дилемма была бы неразрешимой, если бы антропология уже давно не приучила нас
рассматривать… ткань “природа-культура”, в которой отсутствуют какие бы то ни было
швы. Даже наиболее рационалистически мыслящий этнограф, оказавшись за тридевять
земель, вполне способен объединить в одной и той же монографии мифы, этнонауку, ге-
неалогии, политические формы, техники, религии, эпосы и обряды тех народов, которые
он изучает (Там же: 64).
Таким образом, именно антропология становится моделью описания се-
тей, поскольку она в отличие от других дисциплин способна “связать в одно
целое странную траекторию квазиобъектов” (Там же: 164). Но антропологи-
ческая установка не членить бесшовную сеть природ-культур применяется
лишь к домодерным коллективам, а в случае модерных отбрасывается. Будучи
рожденной внутри Модерна, антропология остается асимметричной в отноше-
нии Запада и всех остальных культур. Но почему так трудно антропологически
исследовать социотехнические сети современного мира?
Для ответа на этот вопрос Латуру потребовалось выявить устройство Кон-
ституции Модерна, которая включает в себя два компонента: критику и сети.
Критика выполняет работу очищения, т.е. членит мир на природу и культуру,
распределяет сущности по разным онтологическим регионам человеческого,
нечеловеческого, божественного, а также определяет отношения между ними.
В сетях проводится работа медиации или перевода, т.е. смешения, гибридиза-
ции и обмена свойствами между гетерогенными сущностями. Результатом этой
работы становятся гибриды природы и культуры - природы-культуры. Слово
“гибриды” используется за неимением лучшего и может ввести в заблуждение.
Оно будто бы подразумевает, что изначально есть чистые типы, которые затем
смешиваются. Но, по Латуру, все прямо наоборот: первоначально есть конти-
нуум существований, а Конституция посредством работы очищения делает из
них сущности (essences), наделяет их свойствами, компетенциями и распреде-
ляет по разным онтологическим регионам. Таким образом, сети и их работа
медиации - это предварительное условие критики и ее работы очищения. Но и
без очищения Конституция и коллектив Модерна были бы невозможны. Без
сетей “практики очищения были бы бесплодными или бездейственными”,
без очищения “работа перевода была бы замедлена, ограничена или даже
оказалась бы под запретом” (Латур 2006: 71).
Специфика Конституции Модерна (или Нового времени) определяется дву-
мя характеристиками. Во-первых, критика Модерна проводит границы между
онтологическими регионами не так, как это делают Конституции других кол-
лективов. В частности, она жестко разделяет людей, нелюдей и Бога, механиз-
мы их репрезентации (политику, науку и религию соответственно), а также
устанавливает радикальный разрыв между Западом и всеми остальными куль-
турами. Во-вторых, Конституция Модерна полностью отделяет работу очище-
ния (критику) от работы медиации (сети). В итоге изнутри Конституции работа
медиации и гибриды оказываются совершенно невидимыми. Но речь не об ил-
люзии, а о неожиданных практических последствиях такого положения дел -
масштабном и неконтролируемом распространении гибридов. “Новое Время не
есть ложное сознание нововременных, и мы должны действительно признать
за Конституцией… эффективность. …Конституция внушила нововременным
14
Этнографическое обозрение № 1, 2022
решимость задействовать вещи и использовать людей в таком масштабе, кото-
рый они никогда бы себе не позволили без этой Конституции” (Там же: 108).
Первый результат этой экспликации состоит в том, чтобы отказаться счи-
тать нарратив критики полным описанием нашего мира. Критика и ее прак-
тики очищения - лишь часть Модерна. Никто никогда не смог бы жить только
по уставу Конституции, которая в действительности руководствуется только
критикой и обходится без сетей с их гибридизациями. Отсюда название кни-
ги - “Мы никогда не были модерными” (“Nous n’avons jamais été modernes”).
Но нам здесь интереснее второй результат. Латур возвращает в публичное про-
странство Модерна практики медиации, добавляет их к практикам очищения.
Это позволяет эксплицитно поставить вопросы об отношениях между двумя
группами практик и о новой Немодерной Конституции. Но что еще важнее, это
позволяет понять другой смысл выражения “мы никогда не были модерными”,
а именно - мы никогда не покидали общей для всех коллективов антропологи-
ческой матрицы, к описанию которой так хорошо подготовлена антропология.
[С] точки зрения сравнительной антропологии, все эти коллективы схожи друг с дру-
гом в том, что они одновременно распределяют, что в будущем станет элементами
природы и что в будущем станет элементами социального мира. Никто никогда не
слышал о коллективах, которые не задействовали бы небо, землю, тела, блага, пра-
во, богов, души, предков, силы, зверей, верования, вымышленные существа. Такова
старая антропологическая матрица, которой мы никогда не покидали (Там же: 182).
Итак, все коллективы в мире роднят сети - открытое множество способов
трансформировать, переводить, гибридизировать. Сети определяют ту антро-
пологическую матрицу, которую ни один коллектив, в том числе и Модерный,
никогда не покидал. С одной стороны, это открытие делает возможной полно-
масштабную антропологию современного мира с его науками, технологиями,
медицинами, системами родства, религиями и, конечно, мобильностями - ан-
тропологию современного мира, которая не будет ограничиваться изучением
поверхностных и маргинальных аспектов, например технологий мобильности
(Там же: 201-204). С другой - открывается путь для сравнительной симметрич-
ной антропологии всех коллективов. Симметричной не только потому, что она с
помощью одного словаря описывает людей и нечеловеков, но и потому, что она
более не использует радикальное различие между Западом и всеми остальными
в качестве ресурса, а пытается его объяснить. Симметрия, однако, предполагает
не фактическое равенство, но соизмеримость. Работа медиации, идущая во всех
коллективах, вновь делает их сравнимыми. Модерный Запад больше не уни-
кальный, несоизмеримый со всеми остальными коллектив, для которого нужно
придумывать отдельную антропологию или, того хуже, не иметь никакой.
Но эта общая антропологическая матрица (одновременное производство
природ и культур), восстанавливающая соизмеримость всех коллективов, -
лишь точка отсчета, пункт отправления на поиски новых более реалистичных и
эмпирически обоснованных различий.
Принцип симметрии имеет целью не только установление равенства - что является всего
лишь способом установить стрелку весов на нулевой отметке, - но и регистрирование
различий, то есть в конечном счете асимметрий, и понимание практических средств,
которые позволяют одним коллективам доминировать над другими. Хотя коллективы мо-
гут быть схожими в принципах, касающихся одновременного производства природы и
общества, они могут отличаться по своим размерам (Там же: 183).
Коллективы различаются своими Конституциями, практиками очищения, ма-
териалами, которые они используют для своего строительства, масштабами мо-
билизации людей и нечеловеков. Симметричная антропология, таким образом,
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
15
избегает ошибок культурного релятивизма и универсализма. Первый, представ-
ленный выше социологией научного знания Блура, игнорирует различия между
коллективами и потому не способен их зарегистрировать. Культурный реляти-
визм полагает все коллективы несоизмеримыми и игнорирует их усилия по соз-
данию асимметрий и достижению господства. Второй абсолютизирует различия
между коллективами, создавая радикальный разрыв между Западом и всеми
остальными, но игнорируя общую антропологическую матрицу всех коллекти-
вов. Но и первый, и второй ошибочны, т.к. принимают как самоочевидную идею
существования одной природы и множества культур. Универсалисты полагают
Запад особенным, будто только он обладает привилегированным доступом к при-
роде, которого нет у других коллективов. Релятивисты же настаивают, что все
культурные репрезентации - произвольные конструкции и между ними нельзя
зафиксировать никаких асимметрий. Но обе позиции зависимы от нарратива Кон-
ституции Модерна, согласно которому мы живем в мире, где есть только одна
природа и множество культур.
Симметричная антропология открывает дверь за пределы Модерна и
утверждает множество природ помимо множества культур. «От культурного
релятивизма мы переходим к “природному”. Первый вел к абсурду, второй дол-
жен позволить нам вновь обрести здравый смысл» (Латур 2006: 181). Различия
между коллективами определяются не только дискурсивно или когнитивно, но
и онтологически: разные коллективы используют разные материалы, мобили-
зуют разных нечеловеков и божеств, артикулируют у сущностей разные компе-
тенции для построения своих природ-культур. Таким образом, симметричная
антропология Латура прокладывает путь онтологическому повороту в антропо-
логии (Соколовский 2016; Дескола 2012; Вивейруш де Кастру 2017; Holbraad,
Pedersen 2017).
Завершим эту экспозицию симметричной антропологии замечанием о по-
следствиях, которые ее возвещение имеет для понятия культуры. Выше мы от-
мечали асимметричность модерной антропологии в отношении Запада и всех
остальных культур. Мы также заметили, что у антропологии Латур заимствует
не столько теории, сколько modus operandi - модель описания, которая не разре-
зает с самого начала сети природы-культуры на модерные департаменты науки,
технологии, экономики, религии, межличностных отношений и т.д. И если Ла-
тур описывает культуру лаборатории, то само понятие культуры в этом анализе
сильно трансформируется (Latour, Woolgar 1986: 53-69). Это не случайно, так
как понятие культуры, конституирующее модерную антропологию, становится
проблемой для новой симметричной антропологии.
Антропология асимметрична именно потому, что ограничивает себя культу-
рой и воздерживается от исследования объектов природы. “Само понятие куль-
туры является артефактом, созданным путем вынесения природы за скобки.
Ибо культуры… существуют не в большей мере, чем универсальная природа.
Существуют только природы-культуры, и именно они составляют единственно
возможное основание для сравнения” (Латур 2006: 178).
Симметричная антропология “уже не занимается тем, что сравнивает другие
культуры, оставляя в стороне свою собственную, которая якобы обладает уни-
версальной природой благодаря какой-то удивительной привилегии. Она срав-
нивает природы-культуры” (Там же: 170). Так же, как социологам пришлось
отказаться от понятия общества, чтобы исследовать мобильности (Урри 2012б),
антропологам следует превратить понятие культуры из концептуального ресур-
са в тему исследования, если они намерены сравнивать модерные, домодерные,
амодерные коллективы или природы-культуры. Это новое “недовольство куль-
турой” оказывается в центре онтологического поворота в антропологии.
16
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Обязательство изучать природы-культуры не только открывает новый пере-
чень задач по обнаружению действительных эмпирических различий между кол-
лективами (в том числе внутри той агломерации коллективов, которую мы на-
зываем Западом), но и подводит нас к важному следствию. Следует перестать
выносить объекты наук, технологий, медицин, религий и других профессий за
пределы нашего рассмотрения. В фокусе симметричной антропологии, напри-
мер техномобильностей, должны оказаться не только значения, использования,
репрезентации, дискурсы, но и само содержание этих технологий, их онтологии,
т.е. практики, конституирующие их создание и поддержание.
Те, кто неспособны объяснить прорыв объектов в человеческий коллектив, со всеми его
манипуляциями и практиками, которых они требуют, не являются антропологами, по-
скольку не в состоянии уловить… наиболее фундаментальный аспект нашей культуры:
мы живем в обществах, где социальные связи создаются объектами, полученными в ла-
боратории, где идеи замещаются практиками, аподейктические суждения - контролиру-
емой доксой, всеобщее согласие - сообществами коллег (Латур 2006: 84).
Надеюсь, мне удалось эксплицировать фундаментальную связь между ан-
тропологией и STS. Дело не только и не столько в заимствовании исследова-
телями наук и технологий антропологических методов и теорий. Латуровское
предложение симметричной антропологии, адресованное и исследователям се-
тей, и антропологам, дает понять, как две области могут обогащать друг друга.
С одной стороны, антропология предлагает STS модель описания сетей, избав-
ленную от препон критики, с другой - “анализ сетей протягивает руку антропо-
логии и предлагает ей занять то центральное место, которое было ей уготовано”
(Там же: 178). Антропологам открываются новые поля в самом центре совре-
менных технокультур, а не на их периферии.
От оппозиции движение-мобильность
к материалам и энергиям мобильностей
Перспектива симметричной антропологии теперь позволит иначе взглянуть
на культуры мобильностей вообще и культуры БА в частности. Когда мы зани-
маем эту новую точку зрения, первым меняется понятие мобильностей, импли-
цитно сохраняющее оппозицию природа-культура. Влиятельная в исследова-
ниях мобильностей книга Тима Крессвелла (Cresswell 2006) послужит для нас
наглядным примером.
Вся книга организована вокруг различения движение-мобильность. Дви-
жение
- это идея перемещения в абстрактном пространстве из точки
А в точку Б, “абстрагированная мобильность (мобильность, абстрагированная
от контекстов власти)” (Ibid.: 2). Мобильность же - это социальное произве-
денное движение, нагруженное смыслами (Ibid.). Движение - динамический
эквивалент размещения в абстрактном пространстве (space), мобильность -
динамический эквивалент места (place). Движение - элемент “позитивистско-
го” дискурса традиционных географии, исследований миграции и транспорта.
Мобильность - термин новых исследований мобильностей и транспорта, кри-
тической гуманистической географии.
Понятие мобильности, таким образом, предполагает понятие чистого дви-
жения и даже включает его в себя, но добавляет к нему нечто еще: смыслы,
репрезентации, живой человеческий опыт, социальные эффекты этого движе-
ния. В этой конструкции легко воспроизвести дихотомию мононатурализма и
мультикультурализма. Можно одновременно говорить об однородном движении
и разнородных мобильностях, никак не тревожа традиционный водораздел меж-
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
17
ду “позитивизмом” и “критическими, интерпретативными, гуманистическими”
исследованиями. Вот где это заметно лучше всего: “В то время как движение
поезда (скажем, из Парижа в Лион) происходит в абстрактном, абсолютном
пространстве и времени (курсив мой. - А.К.), оно играет центральную роль в
производстве социального времени и пространства. Здесь движение становится
мобильностью” (Ibid.: 6). Крессвелл буднично противоречит здравому смыслу,
называя пространство и время между Парижем и Лионом абстрактными и абсо-
лютными, чтобы оставить “природу” и механику движения в них неисследован-
ными и переключить наше внимание на мобильности - “социальные и культур-
ные” эффекты движения.
В противовес этому симметричная антропология требует от нас признать со-
циальной саму конституцию движения, пространства и времени, при условии,
что под этим понимается не отдельный тип материала “социальное”, а трудоем-
кая работа по трансформации, ассоциированию и менеджменту различных мате-
риалов, результат которой - возможность перемещаться между Парижем и Лио-
ном (ср.: Latour 1997). Всякое движение из точки А в точку Б - это врéменное и
хрупкое достижение коллектива (не)человеческих сущностей. Такая рефокуси-
ровка позволит перейти от анализа мобильностей в терминах избитых оппози-
ций природа-культура, физическое-социальное, человеческое-нечеловеческое к
специфике и организации материалов, конституирующих само движение.
От беспилотных автомобилей к х-пилотируемым х-мобилям. Обратим
внимание на само выражение “беспилотные автомобили”, которое до этого
я использовал непроблематично и в целях экономии даже упаковал ad hoc в
акроним БА. Как уже отметили ряд исследователей (Stayton et al. 2017; Stayton,
Stilgoe 2020), все хорошо с этим выражением, кроме двух слов - “беспилотные”
и “автомобили”. Каждое из них можно разделить на две части, одна из кото-
рых обладает специфическим содержанием (-пилотные, -мобили), а другая - нет
(бес-, авто-). Если мы заменим не имеющие специфического содержания при-
ставки бес- и авто- конвенциональным знаком х, обозначающим нечто, что
нужно найти, то получим выражение х-пилотные х-мобили. Эта простая транс-
формация позволяет понять, насколько бессмысленно и аморфно выражение
“беспилотные автомобили”. Оно буквально выносит за скобки самое интерес-
ное - материалы, которые замещают собой эти х. Но эта же трансформация
остраняет предмет нашего беспокойства и позволяет занять в отношении него
агностическую позицию. Теперь перед нами уравнение с двумя неизвестными.
Мы признаем, что не знаем, из чего состоят беспилотные автомобили. Тогда
почему бы не добавить немного содержания в наш разговор о современных
транспортных технологиях?
Попробуем раскрыть первое х. Противопоставление беспилотного мобиля
пилотируемому имеет смысл только при одном условии: под пилотом мы пони-
маем исключительно человека. За пределами предрассудка антропоцентризма
применять прилагательное “беспилотный” к технологиям абсурдно. Вместо это-
го можно говорить о человекопилотируемых и нечеловекопилотируемых моби-
лях. Если роль человека в пилотировании транспорта меняется, то это вовсе не
значит, что проблема пилотирования как таковая испаряется. Как раз наоборот.
На протяжении всего XX в. пилотирование автомобилями было отдано на
откуп людям с их нечеткими и малопонятными алгоритмами. И только в по-
следнее время человеческое вождение стали рассматривать как задачу, которую
можно решить инженерно (Stilgoe 2017). Именно это создало проблему моде-
лирования нечеловеческого пилотирования, которой в отношении людей про-
сто не было. А иначе почему дилемма вагонетки, тенью следующая за любым
разговором о мобилях нового поколения, полностью отсутствует в обсуждении
18
Этнографическое обозрение № 1, 2022
человеческих практик вождения (см. об этом и других этических аспектах БА в
статье Л. Земнуховой в этом номере)? Сам факт инженерной проблемы пилоти-
рования и сложность ее решения говорят о попытках изобрести пилотов новой
природы и формы, а не об избавлении от них. Кроме того, пилотирование под-
разумевает маневрирование, т.е. сцепление между движением мобиля и мото-
рикой самого пилота. Поэтому говорить о нечеловекопилотируемом транспорте
как о беспилотном абсурдно. Это равносильно тому, чтобы говорить о нем как
о безмобильном.
Технологическая ниша разработки и тестирования БА нацелена на изме-
нение коллективов пилотирования мобилями, их состава, материалов и форм.
Важно понимать внутреннее устройство этих комплексов и взаимодействовать с
ними как с пилотами, имеющими свои склонности, навыки, опыт, школу, стиль,
предпочтения. Значит выражение “нечеловекопилотирумые мобили” слишком
уж неточное. Учитывая множество способов решения проблемы нечеловеческо-
го вождения, можно выражаться точнее: робопилотируемые, нейросетепилоти-
руемые, строгоалгоритмопилотируемые мобили. Тогда нечеловеческий пилот
перестает быть безликим и аморфным, обретает специфику и (не)способности.
Например, многие современные инженеры и инженерки убеждены, что строгим
алгоритмам не под силу освоить вождение, и потому разрабатывают нечело-
веческих пилотов на основе нейросетей (Stilgoe 2017; Lipson, Kurman 2016).
Какой именно нечеловеческий пилот повезет вас завтра? Будет ли он принимать
решения на основе строгих алгоритмов или нейросетей, будет ли его зрение
основано на лидарах, радарах, камерах или какой-то их комбинации, нужны ли
ему будут связь со спутником или HD-карты местности? Все это имеет прямое
отношение к возможности, характеру, маршруту, безопасности вашей поездки.
Итак, пилоты никуда не исчезают, меняются лишь их материалы, органи-
зация, форма. Но из этого не следует, что речь идет о замене автономных че-
ловеческих пилотов автономными нечеловеческими. Выражение “автономные
транспортные средства” (autonomous vehicles) имеет не больше смысла, чем
“беспилотные автомобили”. Посмотрим на человекопилотируемые мобили.
Сегодня люди вовсе не управляют транспортными средствами в одиночестве
и совершенно самостоятельно. В наземном транспорте водителям в послед-
нее время все больше помогают продвинутые системы содействия вождению
(advanced driving assistance systems, ADAS): системы предупреждения схода с
полосы, системы автономного экстренного торможения, адаптивный круиз-кон-
троль, автоматический парковщик. Машины, проезжающие у вас за окном пря-
мо сейчас, управляются коллективами из людей и нечеловеков, и конфигурации
этих коллективов разнятся.
Вернемся к нечеловеческим пилотам. Они также комбинируют в себе гете-
рогенные материалы. В 2016 г. один из ведущих инженеров компании Delphi
Automotive сообщил на слушании в Сенате США, что их машина совершила
переезд длиной 3400 миль из Сан-Франциско в Нью-Йорк и 99% пути пилоти-
ровалась “автономно” (De Vos 2016). А что с оставшимся 1%? Это время, когда
требуется вмешательство человека. Например, в случае передачи управления
от нечеловеческого пилоту к человеческому. Значит, говоря “нечеловекопило-
тируемый мобиль”, мы имеем в виду транспорт, пилотируемый нечеловеками
менее, чем на 100%. Это наглядно подтверждается тем, что в испытаниях моби-
лей, беспечно именуемых беспилотными, нередко задействуется более одного
человека: не только водители-испытатели, но и операторы, аналитики, другие
специалисты, находящиеся в машине или вне ее (Both 2020; Stayton et al. 2017).
Отсюда следует два вывода. Во-первых, с какой стороны - человеческой
или нечеловеческой - ни начинай, приходишь к комбинации (пусть в разных
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
19
пропорциях) человеческого и нечеловеческого пилотирования. В любом случае
мы имеем дело c мобильным коллективом людей и нечеловеков, управляющим
машиной. Назовем их пилот-коллективами. Приняв это за отправную точку,
мы быстро перейдем к эмпирическому описанию композиций пилот-коллекти-
вов, реконфигурируемых транспортными инновациями.
Во-вторых, реконфигурация пилот-коллективов ведет к трансформации, из-
менению формы человека. Путешествуя по лабиринтам гибридных пилот-кол-
лективов, мы не удаляемся от антропологии, а приближаемся к ней. В фокусе
оказывается антропоморфирование - единый процесс, внутри которого ведут-
ся споры и о том, как придать новым видам движения современную человече-
скую форму (т.е. сделать их более безопасными, экологичными, справедливыми,
инклюзивными), и о том, как изменить форму самого человека, добавив в пи-
лот-коллектив или убрав из него алгоритмы, формы владения, сенсоры, иден-
тичности, интерфейсы, правовые субъекты и т.д.
Это ре- или трансформирование человека носит не ковровый и повсемест-
ный, а сетевой характер. Оно локально во всех точках, несмотря на свою боль-
шую или меньшую протяженность (Латур 2006: 194-198). Прежде всего, конеч-
но, меняется форма водителя. В пилот-коллективе, где превалируют нечеловеки,
человек из оператора вождения превращается в супервайзера (Bainbridge 1983).
Эта новая форма человека выводит на первый план проблему координации вну-
три пилот-коллектива, в частности, проблему передачи управления от нечело-
веческой части коллектива к человеческой (Hind 2019; Stilgoe 2017). Тот самый
1% времени, когда требуется такого рода координация, считается ключевой
проблемой и узким местом сложных пилот-коллективов, что хорошо известно
эргономам и исследователям человеко-машинного взаимодействия. Но не толь-
ко водители изменят свою форму. Новые версии пилот-коллективов обещают
трансформировать пожилых, маломобильных, тех, кто по каким-то причинам
не может или не хочет водить мобили или владеть ими.
Обратимся к х-мобилям. Если нет особого смысла говорить об “автопило-
тах”, то нельзя делать уступку и “автомобилям”. Что не так со словом “автомо-
биль”? Если сегодня передовые технокомпании захвачены проблемой вождения,
то в конце XIX в. столь же “горячей” была проблема движения. Сегодняшние
инженеры и инженерки стремятся извлечь водительские решения из чего-либо,
помимо нервной и когнитивной систем человека, а тогдашние бились над тем,
чтобы извлечь энергию из чего-либо, помимо мускулов человека или животного.
Нынешние успехи в поиске источников водительских решений за пределами че-
ловека не дают нам права говорить об автопилотах и беспилотниках в строгом
смысле. Почему? Потому что обе приставки и вводят в заблуждение относитель-
но человеческого участия в пилотировании, и создают иллюзию однородности
нечеловеческого в этом пилотировании.
Материалы и формы, скрываемые приставкой авто-, имеют решающее зна-
чение для будущего вождения. Прошлые успехи в извлечении энергии из угле-
водородов не должны давать оснований скрывать за приставкой авто- разноо-
бразие источников энергии для движения. Бессодержательное и затемняющее
авто- следует заменить столь же бессодержательным х. Чтобы наполнить раз-
говор об х-мобилях смыслом, потребуется каждый раз заменять х именем кон-
кретного источника энергии движения мобилей. Нет автомобилей, есть лишь
нефтемобили, углепаромобили, человекомобили, анималомобили, электромо-
били, ветромобили, гелиомобили. Пора называть вещи своими именами!
Кроме того, слово “автомобиль” создает немаркированную нормальность
в сфере мобильности. Образ нормального для современного мира самодви-
жения, в котором источник энергии не маркирован, затушевывает тот факт,
20
Этнографическое обозрение № 1, 2022
что подавляющее большинство современных транспортных средств являются
нефтемобилями. Если энергетические различия между мобилями обретают
сегодня экологическое, а значит и политическое значение, то мы должны арти-
кулировать это и в нашем языке. Вернув х-мобилям их настоящие имена, мы
сможем оценить, в какой мере современные инновации в энергии для движе-
ния сопровождают инновации в практике вождения. Не продолжим ли мы и
далее жить в мире нефтемобилей, пусть и нейросетепилотируемых? Следует
забыть о самодвижении и исследовать, какая кровь течет в моторах современ-
ных х-мобилей - черная или зеленая?
От культур к коллективам мобильностей
Выше в перспективе симметричной антропологии мы пересмотрели поня-
тие мобильности и остранили немаркированную нормальность имени “беспи-
лотные автомобили”. Теперь рассмотрим, как изменится наше понимание
культур мобильностей. Оле Йенсен предложил одну из наиболее развернутых
экспликаций этого понятия (Jensen 2009b). Во-первых, речь идет о культиви-
ровании. Практики мобильности сами представляют собой культуру, создавае-
мую и поддерживаемую мобильными акторами. Это культивирование включает
в себя (не)формальные нормы и правила, некоторые из которых локальны и
специфичны (т.е. привязаны к местам и типам движения - веломобильности,
автомобильности, скейтбордингу и т.д.), а некоторые - более распространены
и менее специфичны. Во-вторых, понятие культур мобильностей указывает на
альтернативные способы, инфраструктуры и технологии движения, а также на
разнообразные (комплиментарные, резонансные, конфликтные, несоизмери-
мые) отношения между ними. В-третьих, речь идет о множественных онтоло-
гиях и эпистемологиях мобильностей.
Итак, культуры мобильностей говорят о культивировании, локально-
сти, альтернативах и множественности. Однако этот дискурс может быть
непродуктивным, если сохранит дихотомии природа-культура, мононату-
рализм-мультикультурализм. Он бесполезен для наших целей, если ведет
лишь к демонстрации того, что несомненно функциональные технологии и
инфраструктуры мобильностей наделяются множественными, локальными и
альтернативными значениями в процессе обживания их людьми (Merriman
2004). Симметричная антропология требует от нас не ограничиваться демон-
страцией множественности и локальности “культурной” стороны мобиль-
ностей (социальных эффектов, значений, репрезентаций, использований и
восприятий), оставляя “техническую” сторону нетронутой и подразумевая
ее монотонность и универсальность. Мы должны иметь возможность описы-
вать материальную множественность разных способов движения и не счи-
тать эти множественности изначально данными. Дискурс о культурах мо-
бильностей должен допускать описание гибридов и гибридизации. Поэтому
во избежание недоразумений следует говорить о коллективах, ассоциациях,
ассамбляжах мобильностей.
Каково значение этих трансформаций для описания х-пилотирумых х-моби-
лей? Прежде всего они помогают рельефнее описать техноантропологическую
множественность пилот-коллективов. Выше, используя слова “водитель” или
“пилот”, я лишь конденсировал с их помощью открытое и некогерентное мно-
жество практик вождения. Одни элементы этого множества учреждены испол-
нением разных социальных обязательств и составом домохозяйства водителя
(Урри 2012a), другие - характером местности, где осуществляется движение,
третьи - типом владения мобилями и т.д. Люди обретают тела водителей, пе-
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
21
ресекая лишь части этого множества (см. статью М. Киселевой в этом номере).
Это выражается во внутренней дифференциации рынка нефтемобилей, где
на гетерогенность практик вождения указывают разные типы кузовов (купе,
хэтчбеки, внедорожники, кроссоверы, минивэны) и сценарии использования
(эксклюзивное владение, прокат, шеринг, автопул).
Современные технокомпании пытаются делегировать (частично или полно-
стью) нечеловекам множество практик вождения, исполнявшихся ранее людь-
ми, перераспределяя компетенции между ними в пилот-коллективе. Зная о вну-
тренней гетерогенности этого множества, нетрудно увидеть и множественность
технологий х-пилотируемых х-мобилей. Разные проекты в этой нарождающейся
индустрии приоритизируют разные подмножества практик вождения и, следова-
тельно, разные типы будущих пользователей. Разработки технокомпаний решают
разные задачи, так как нацелены на автоматизацию разных практик вождения.
Лучше всего это видно при сравнении проектов Tesla и Waymo. Проект
компании Илона Маска Tesla Autopilot нацелен на автоматизацию практик во-
ждения в длительных поездках по скоростным шоссе: адаптация скорости к
средней скорости потока, удержание в полосе движения, смена полосы, сме-
на шоссе, съезд с шоссе, автоматическая парковка (Tesla 2018; Hind 2019: 8).
После съезда с шоссе Tesla Autopilot должен вернуть управление человеку.
Проект направлен на решение круга проблем вполне определенной группы
пользователей (преимущественно в США), совершающих долгие поездки из
пригорода в центр города и обратно. Неудивительно, что шоссе - основная
местность, где производятся испытания Tesla (Hind 2019) (см. о значении
мест и сред тестирования в статье Н. Руденко в этом номере). В отличие от
Tesla Autopilot проект Waymo компании Google нацелен на автоматизацию
практик вождения не на пути из пригорода в центр, а в комплексной среде
внутренней части американских городов. Для этого подмножества практик
вождения типична проблема навигации на пересечениях в одном уровне (на
перекрестках разного типа). Отсюда основная местность публичных испыта-
ний Waymo - “комплексная городская и пригородная среда” как выражение
“наиболее неправилосообразного (unruly) множества социальных феноменов
за пределами машины” (Hind 2019: 11-12).
Разницу между проектами подчеркивает не только автоматизация разных
подмножеств практик вождения, воплощенных в разных телах водителей, но и
ориентация на разные сегменты рынка услуг мобильности. Tesla ориентирована
на производство и продажу в эксклюзивное частное владение электромобилей
класса люкс и потому отказывается от дорогостоящих сенсоров (напр., лидара
или лазерного дальномера) в пользу камер компьютерного зрения. С лидаром
машина станет настолько дорогой, что будет не по карману даже очень состоя-
тельным потребителям. Waymo, в свою очередь, нацелена на создание сервиса
алгоритмопилотируемого электротакси, находящегося в их собственности, и
потому продолжает делать ставку на лидары как более надежные, пусть и более
дорогие сенсоры.
Это сравнение позволяет сделать несколько наблюдений. Во-первых, в ин-
дустрии “беспилотных автомобилей” мы имеем дело не с одной технологией,
а с открытым множеством частично связанных между собой коллективов мо-
бильности. Во-вторых, эти коллективы внутренне гетерогенны и дифферен-
цированы. Они не ограничиваются лишь технологическим стеком (набором
сенсоров и программного обеспечения на базе автомобильной платформы), но
связывают вместе автоматизацию, практики вождения, тела водителей и их со-
циальные обязательства, физические и социальные характеристики местностей
для испытаний, хард, софт, сценарии владения и сегменты рынка. В-третьих,
22
Этнографическое обозрение № 1, 2022
сравнение показывает, что проекты различаются качественно. Они мобилизуют
разные элементы, и их нельзя подвергнуть простому количественному сравне-
нию в терминах лучше/хуже, более/менее эффективно.
От гибридизации к деметрополизации:
автопром встречает ИТ-компании
Но сравнение проектов Tesla и Waymo также показывает, что нарождающие-
ся мобильные коллективы нельзя описать через дихотомии природа-культура,
технологии-общество, человеческое-нечеловеческое, поскольку вовлеченные в
них элементы трансформируются и гибридизируются. Рассмотрим эту гибри-
дизацию. Сегодня в сферу х-мобилестроения приходят ИТ-гиганты - Google,
Yandex, Baidu, Tesla, которые начинают конкурировать с лидерами автопрома
General Motors, Nissan, Volvo и т.д. Можно сказать, что ИТ и автопром обла-
дают разными технокультурами, если под этим мы понимаем множественные,
локальные и с трудом переносимые процессы культивирования способов про-
изводства и дистрибуции продуктов и услуг. Сравнивая эти культуры, обратим
внимание на два важных аспекта.
Во-первых, ИТ-компании ориентированы на разработку, выпуск и под-
держание услуг, а автопром - завершенных продуктов. Разница в том, как в
двух культурах принято реагировать на “ошибки”. В автопроме дефекты, об-
наруженные в продукте, ведут к его отзыву с рынка. В ИТ на баги в услуге
(программном обеспечении, софте) реагируют выпуском патчей и обновлений.
Это позволяет немного понять разницу в стратегиях ИТ- и автопромышленных
компаний. Первые настроены радикально, а вторые склонны к стадиальному
переходу от ADAS к собственно “беспилотному” режиму. Например, Tesla осу-
ществляет продвижение своих разработок в этой области так, как если бы это
буквально были смартфоны. В октябре 2016 г. компания заявила, что все про-
даваемые ею автомобили, включая новую Tesla Model 3, будут оснащены хар-
дом, который необходим для обеспечения полностью “беспилотного” режима
(Tesla 2016). Алгоритмы безопасного “беспилотного” режима пока еще не раз-
работаны. Но как только это будет сделано, софт этих моделей будет обновлен
беспроводным способом, и пользователи мгновенно получат доступ к этой ус-
луге. При этом в моделях с новым оборудованием не будут доступны функции
Tesla Autopilot, которые были доступны с хардом предыдущего поколения.
Во-вторых, ряд лидеров, задающих тон в разработке “беспилотных автомо-
билей”, не только относятся к технокультуре ИТ, но и находятся в юрисдикции
США. Рассмотрим этот аспект подробнее.
С 1990-х годов в США сложилась особая культура регулирования, которая
защищает компании, работающие в рискованной сфере ИТ. Действия админи-
страции президента Клинтона, Конгресса и судов сформировали “сделанную
наспех (cobbled), колеблющуюся и непоследовательную промышленную поли-
тику, которая, однако, в итоге дала мощный набор законов, благосклонных к ин-
тернету” (Chander 2014: 642). Этими законами стали: “Communications Decency
Act of 1996”, “Internet Tax Freedom Act”, “Digital Millennium Copyright Act” и
др. Суммарный эффект этих законов отчасти объясняет успехи “Кремниевой
долины” в Калифорнии, “Шоссе 128” в Бостоне и отсутствие столь успешных
кластеров за пределами США. Важно и то, что такая политика была подкрепле-
на не только коммерческими соображениями, но и Первой поправкой к консти-
туции США, гарантирующей свободу слова.
Реформы в законодательстве о гражданских правонарушениях и об автор-
ских правах защитили новое поколение стартапов, создавших Web 2.0. Эти пра-
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
23
вовые инновации снизили ответственность ИТ-компаний по защите частной
информации и сняли ряд других претензий. Интернет- (сайты, социальные сети
и медиа) и оффлайн- (журналы, газеты, телевидение, радио) издания регулиро-
вались по-разному. Бумажное издание ответственно, например, за публикацию
клеветы и может понести серьезные убытки. Интернет-медиа же не несет от-
ветственности ни за размещение, ни за распространение подобной информа-
ции, если она создана не самой компанией, а пользователем. Оно лишь обязано
удалить эту информацию и заблокировать пользователя по запросу. Как пишет
Анупам Чандер: “Учитывая объем передаваемых ими материалов, трудно пред-
ставить существование Google или Facebook сегодня, если бы у них была от-
ветственность издателя как у The New York Times или Time Warner” (Ibid.: 659).
Эта политика не только снижала правовые риски для ИТ-компаний, но и
воздерживалась от регулирования новых рисков, которые они с собой прино-
сили. Вместо выпуска всеобщего статута власти США предложили ИТ-компа-
ниям уведомлять своих пользователей о том, как они собирают и используют
их личные данные, и пытаться получить на это их согласие. ИТ-компании под-
чинялись не внешнему регулированию, а только тем правилам, которые сами
предложили и на которые получили публичное согласие. При этом они, по сути,
никак не были ограничены в том, как будут использовать персональные данные
пользователя - главное было не делать больше, чем ты обещаешь ему в согла-
шении. Успех ИТ-компаний в немалой степени обусловлен тем, что они могли
торговать огромными объемами персональных данных.
Такая культура регулирования позволила расцвести стартапам Web 2.0, в
которых преобладает модель инновации на основе быстрого экспериментирова-
ния: предоставление сервисов на ранней стадии их разработки, бета-тестирова-
ние и оценка отклика пользователей, продвижение посредством проб и ошибок.
Эту модель инновирования Марк Цукерберг емко определил как Hacker Way -
“Двигайся быстро и ломай вещи” (Zuckerberg 2012: 69). Именно эту модель мы
видим у ИТ-компаний, пришедших в х-мобилестроение.
Таким образом, технокультура ИТ-компаний не является ни сугубо “куль-
турной”, ни сугубо “технической”. Ее частью становится режим регулирования,
включающий в себя исторически и географически локальную практику амери-
канских судов и уникальный политический принцип, воплощенный в Первой
поправке.
Пример специфической культуры регулирования в США позволяет не толь-
ко взглянуть на гибридизацию в коллективах мобильностей под другим углом,
но и локализовать и деметрополизировать глобальные ИТ-компании. Деметро-
полизацию надлежит рассматривать как процесс, идущий параллельно деко-
лонизации. (Не)успехи Tesla и Google не следует автоматически считать пара-
дигмой для других проектов х-пилотируемых х-мобилей в других регионах и
с другими целями. Во-первых, говоря о коллективах мобильностей, учреждае-
мых Tesla Autopilot или Waymo, следует помнить, что речь идет об относитель-
но уникальных, локальных, несоизмеримых и автоматически непереносимых
образованиях. Они могут быть растиражированы mutatis mutandis на другие ре-
гионы только за счет работы трансфера - не менее сложной и кропотливой, чем
сама разработка этих коллективов.
Во-вторых, благоприятный для ИТ-гигантов регуляторный режим не ха-
рактеризует правовую систему США в целом, речь идет лишь о ее небольшом
сегменте, направленном на узкий спектр предприятий. Именно особая провин-
циальность этого режима объясняет, почему самые успешные инновационные
кластеры расположены в США. В Европе и Азии ИТ-компании, аналогичные
американским, сталкиваются с куда более жестким регулированием и потому
24
Этнографическое обозрение № 1, 2022
развиваются менее динамично и предлагают менее радикальные сервисы, чем
их американские конкуренты. Чандер показывает, как, например, националь-
ная политика Южной Кореи в отношении защиты частной информации создает
преимущества не для местных компаний, а для Google (Chander 2014).
В-третьих, делая акцент на культивировании, мы понимаем хрупкость ин-
новаций в ИТ-индустрии, для динамики которых характерен быстрый переход
от всеобщего восхищения и энтузиазма к отвращению и забвению. Описанные
регуляторные меры позволили многим уязвимым на ранних стадиях стартапам
избежать этой судьбы. В результате значительная часть правовых ограничений
оказалась снята, а динамика инноваций определялась откликом пользователей
и требованиями рынка. Но это не потому, что рынок по умолчанию имеет реша-
ющее значение, а благодаря культивированию иммунитета для ИТ, освобожда-
ющего их от ответственности в тех случаях, когда другие индустрии не были от
нее избавлены.
Наконец, мы начинаем понимать кажущееся самопротиворечие в стратеги-
ях ИТ-компаний, разрабатывающих новые коллективы мобильностей. С одной
стороны, они следуют модели быстрого экспериментирования (Hacker Way) в
новой для себя области х-мобилестроения, а с другой - надеются на избавле-
ние от жесткого регулирования, как это было с Web 2.0. Они сочетают смелые
прогнозы о машинном решении проблемы вождения, стратегии, ломающие
принятые правила в автопроме, и просьбы защитить от строгого регулирова-
ния нарождающуюся индустрию, делающую лишь детские шажки. Пользуясь
преимуществами тестирования на публичных дорогах, они также настаивают
на своем праве не делиться данными и информацией об алгоритмах с государ-
ственными агентствами под предлогом того, что это их собственность и ком-
мерческий актив.
Таким образом, новые х-пилотируемые х-мобили противоречивы не столь-
ко потому, что вызывают полярные отклики, сколько потому, что оказываются
наслоениями или стеками противоречивых элементов. Они внутренне проти-
воречивы. Этим элементам еще только предстоит научиться уживаться друг с
другом внутри с виду непроблематичного материального объекта, бесшумно
движущегося по улице. (Не)успех и риски новых мобильных гибридов зависят
от способности довольно разношерстных коллективов из инноваторов, инжене-
ров, юристов, полиси-мейкеров и, конечно, исследователей науки и технологий
навести мосты и разрешить противоречия между культурами.
Современные антропологи технологий призваны деэкзотизировать эти эзо-
терические профессиональные культуры. Они должны сделать их публичными,
т.е. осмысленными, понятными и открытыми для обсуждения с участием разно-
родных публик, жизни которых прямо или косвенно касается новая технология.
Их задача описывать динамику коллективов мобильностей новыми способами
и выступать дипломатами в дискуссиях об их будущем.
Благодарности
Я благодарю сотрудников Центра исследований науки и технологий ЕУ-
СПб Николая Руденко, Марию Киселеву, Лилию Земнухову, Сергея Астахова,
Дмитрия Жихаревича и Ольгу Бычкову. Этого исследования не могло быть
без сотрудничества с ними. Я также благодарю Андрея Корбута, диалоги с
которым сделали этот текст лучше.
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
25
Источники и материалы
De Vos 2016 - [De Vos G.] Testimony of Glen W. De Vos // Senate Commerce,
Science and Transportation Committee Hearing. Delphi Automotive. https://www.
commerce.senate.gov/services/files/86053bb6-58d8-4072-a033-03f36766d0c3
(дата обращения: 10.10. 2021).
Tesla 2016 - [Tesla Team] All Tesla Cars Being Produced Now Have Full Self-
tesla-cars-being-produced-now-have-full-self-driving-hardware
com/en_GB/autopilot
Zuckerberg 2012 - Zuckerberg M. Letter Form Mark Zuckerberg // Facebook
data/1326801/000119312512034517/d287954ds1.htm#toc287954_10
Научная литература
Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики: рубежи постструктурной
антропологии. М.: Ad Marginem, 2017.
Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.: НЛО, 2012.
Возьянов А.Г., Кузнецов А.Г., Лактюхина Е.Г. Субмобильности, или О мно-
жественности режимов движения в городе // Этнографическое обозрение.
2017. № 6. С. 30-43.
Кузнецов А.Г. Социология или психология? О концептуальной архитек-
туре сильной программы в социологии научного знания Дэвида
Блура // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 3. С. 104-124.
Латур Б. Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии. СПб.:
Изд-во ЕУСПб, 2006.
Соколовский С.В. (ред.) Российская антропология и “онтологический поворот”.
Томск: Изд-во ТГУ, 2016.
Сорокин П.А. Социальная мобильность. М.: Academia; LVS, 2005 [1927].
Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012a.
Урри Дж. Социология за пределами обществ. М.: ИД ВШЭ, 2012б.
Bainbridge L. Ironies of Automation // Automatica. 1983. Vol. 19 (6). P. 775-779.
Bloor D. Wittgenstein and Mannheim on the Sociology of Mathematics // Studies
in History and Philosophy of Science Part A. 1973. Vol. 4 (2). P. 173-191.
Bloor D. Epistemology or Psychology? The Structure of Scientific Inference by Mary
Hesse // Studies in History and Philosophy of Science Part A. 1975. Vol. 5 (4).
Bloor D. Polyhedra and the Abominations of Leviticus
// The British
Journal for the History of Science.
1978. Vol.
11
(3). P.
245-272.
Bloor D. Durkheim and Mauss Revisited: Classification and the Sociology of
Knowledge // Studies in History and Philosophy of Science Part A. 1982.
Vol. 13 (4). P. 267-297.
Bloor D. Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. L.: Macmillan, 1983.
Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago: The University of Chicago Press,
1991 [1976].
Both G. Keeping Autonomous Driving Alive: An Ethnography of Visions, Masculinity
and Fragility. Opladen: Budrich Academic Press, 2020.
26
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Brown J.R. (ed.) Scientific Rationality: The Sociological Turn. Dordrecht: Springer,
1984.
Chander A. How Law Made Silicon Valley // Emory Law Journal. 2014. Vol. 63 (3).
Cresswell T. On the Move: Mobility in the Modern Western World. N.Y.: Routledge,
2006.
Hind S. Digital Navigation and the Driving-Machine: Supervision, Calculation,
Optimization, and Recognition // Mobilities. 2019. Vol. 14 (4). P. 401-417.
Holbraad M., Pedersen M. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition.
Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2017.
Hollis M., Lukes S. (eds.) Rationality and Relativism. Cambridge, MA: MIT Press,
1982.
Jensen O. Flows of Meaning, Cultures of Movements - Urban Mobility as Meaningful
Everyday Life Practice // Mobilities. 2009a. Vol. 4 (1). P. 139-158.
Jensen O. Mobility as Culture // The Cultures of Alternative Mobilities: Routes Less
Travelled / Ed. P. Vannini. Farnham: Ashgate, 2009b. P. xv-xix.
Latour B. Les idéologies de la compétence en milieu industriel á Abidjan. Abidjan:
Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1974.
Latour B. Insiders and Outsiders in the Sociology of Science: Or, How Can We Foster
Agnosticism? // Knowledge and Society, Studies in the Sociology of Culture Past
and Present. 1981. Vol. 3. P. 199-216.
Latour B. Trains of Thoughts: Piaget, Formalism and the Fifth Dimension // Common
Knowledge. 1997. Vol. 6 (3). P. 170-191.
Latour B., Woolgar S. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts.
Princeton: Princeton University Press, 1986.
Lipson H., Kurman M. Driverless: Intelligent Cars and the Road Ahead. Cambridge,
MA: MIT Press, 2016.
Merriman P. Driving Places: Marc Augé, Non-Places, and the Geographies of England’s
M1 Motorway // Theory, Culture & Society. 2004. Vol. 21 (4-5). P. 145-167.
Pickering A. (ed.) Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago
Press, 1992.
Stayton E., Cefkin M., Zhang J. Autonomous Individuals in Autonomous
Vehicles: The Multiple Autonomies of Self-Driving Cars // Ethnographic
Praxis in Industry Conference Proceedings. 2017. Vol. 2017 (1). P. 92-110.
Stayton E., Stilgoe J. It’s Time to Rethink Levels of Automation for Self-Driving
Vehicles // IEEE Technology and Society Magazine. 2020. Vol. 39 (3). P. 13-19.
Stilgoe J. Machine Learning, Social Learning and the Governance of Self-
Driving Cars // Social Studies of Science. 2017. Vol.
48
(1). P. 25-56.
Vannini P. (ed.) Material Culture and Technology in Everyday Life: Ethnographic
Approaches. N.Y.: Peter Lang, 2009a.
Vannini P. (ed.) The Cultures of Alternative Mobilities: Routes Less Travelled.
Farnham: Ashgate, 2009b.
Vannini P. Mobile Cultures: From the Sociology of Transportation to the
Study of Mobilities // Sociology Compass. 2010. Vol. 4 (2). P. 111-121.
Vannini P. (ed.) Technologies of Mobility in the Americas. N.Y.: Peter Lang, 2012.
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
27
R e s e a r c h A r t i c l e
Kuznetsov, A.G. Symmetrical Anthropology of Technologies: From Cultures to
Collectives of Mobilities in the Description of “Self-Driving Cars” [Simmetrichnaia
antropologiia tekhnologii: ot kul’tur k kollektivam mobil’nostei v opisanii
“bespilotnykh avtomobilei”]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 1, pp. 9-29.
of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
European University at St. Petersburg (6/1a Gagarinskaya Str., St. Petersburg, 191187,
Russia) | ITMO University (49a Kronverksky Pr., St. Petersburg, 197101, Russia)
Keywords
self-driving cars, autonomous vehicles, symmetrical anthropology, ontological turn,
Bruno Latour, mobilities, science and technology studies, actor-network theory,
anthropology of technology
Abstract
The article deals with the analysis of “self-driving cars” from the perspective of
symmetric anthropology. Theoretically, the work is at the intersection of mobility
research and science and technology research. Empirically, it focuses on public
discussions about the construction and testing of “self-driving cars”. I explicate the
key features of the symmetric anthropology approach proposed by Bruno Latour as
an extension of research in science and technology. I further discuss the potential of
symmetric anthropology for the transformation of important concepts of “mobility”
and “culture of mobility”. Empirical examples demonstrate the significance of these
transformations for the study of “self-driving cars”. I criticize the notion of “self-
driving cars” in order to refocus anthropological description on the materials and
energies of the forms of movement produced by this technology. Finally, I propose
moving away from the concept of “culture of mobility” to the concept of “collectives
of mobility” in order to explore the multiplicity, locality, alternativeness, and
cultivation of forms of movement outside the culture-nature dichotomy.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
[grant no. 20-78-10106]
References
Bainbridge, L. 1983. Ironies of Automation. Automatica 19 (6): 775-779.
Bloor, D. 1973. Wittgenstein and Mannheim on the Sociology of Mathematics.
Studies in History and Philosophy of Science Part A
4
(2):
173-191.
Bloor, D. 1975. Epistemology or Psychology? The Structure of Scientific Inference
by Mary Hesse. Studies in History and Philosophy of Science Part A 5 (4): 382-
Bloor, D. 1978. Polyhedra and the Abominations of Leviticus. The British Journal
Bloor, D. 1982. Durkheim and Mauss Revisited: Classification and the Sociology of
Knowledge. Studies in History and Philosophy of Science Part A 13 (4): 267-297.
Bloor, D. 1983. Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. London: Macmillan.
28
Этнографическое обозрение № 1, 2022
Bloor, D. (1976) 1991. Knowledge and Social Imagery. Chicago: The University of
Chicago Press.
Both, G. 2020. Keeping Autonomous Driving Alive: An Ethnography of Visions,
Masculinity and Fragility. Opladen: Budrich Academic Press.
Brown, J.R., ed. 1984. Scientific Rationality: The Sociological Turn. Dordrecht:
Springer.
Chander, A. 2014. How Law Made Silicon Valley. Emory Law Journal 63 (3):
Cresswell, T. 2006. On the Move: Mobility in the Modern Western World. New York:
Routledge.
Descola, P. 2012. Po tu storonu prirody i kul’tury [Beyond Nature and Culture].
Мoscow: NLO.
Hind, S.
2019. Digital Navigation and the Driving-Machine: Supervision,
Calculation, Optimization, and Recognition. Mobilities
14
(4):
401-417.
Holbraad, M., and M. Pedersen. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological
Exposition. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Hollis, M., and S. Lukes, eds. 1982. Rationality and Relativism. Cambridge, MA:
MIT Press.
Jensen, O. 2009. Flows of Meaning, Cultures of Movements: Urban Mobility as
Meaningful Everyday Life Practice. Mobilities 4 (1): 139-158.
Jensen, O. 2009. Mobility as Culture. In The Cultures of Alternative Mobilities:
Routes Less Travelled, edited by P. Vannini, xv-xix. Farnham: Ashgate.
Kuznetsov, A.G. 2020. Sotsiologiia ili psikhologiia? O kontseptual’noi arkhitekture
sil’noi programmy v sotsiologii nauchnogo znaniia Devida Blura [Sociology or
Psychology? On Conceptual Architecture of David Bloor’s Strong Programme
in Sociology of Scientific Knowledge]. Epistemologiia i filosofiia nauki 57 (3):
Latour, B. 1974. Les idéologies de la compétence en milieu industriel à Abidjan
[Ideologies of Сompetence in Industrial Settings in Abidjan]. Abidjan: Centre
ORSTOM de Petit-Bassam.
Latour, B. 1981. Insiders and Outsiders in the Sociology of Science: Or, How Can We
Foster Agnosticism? Knowledge and Society, Studies in the Sociology of Culture
Past and Present 3: 199-216.
Latour, B. 1997. Trains of Thoughts: Piaget, Formalism and the Fifth Dimension.
Common Knowledge 6 (3): 170-191.
Latour, B. 2006. Novogo vremeni ne bylo: esse po simmetrichnoi antropologii [We
Have Never Been Modern]. St. Petersburg: Izdatel’stvo EUSPb.
Latour, B., and S. Woolgar. 1986. Laboratory Life: The Construction of Scientific
Facts. Princeton: Princeton University Press.
Lipson, H., and M. Kurman. 2016. Driverless: Intelligent Cars and the Road Ahead.
Cambridge, MA: MIT Press.
Merriman, P. 2004. Driving Places: Marc Augé, Non-Places, and the Geographies of
England’s M1 Motorway. Theory, Culture & Society 21 (4-5): 145-167.
Pickering, A., ed. 1992. Science as Practice and Culture. Chicago: University of
Chicago Press.
Sokolovskiy, S.V., ed. 2016. Rossiiskaia antropologiia i “ontologicheskii povorot”
[Russian Anthropology and Ontological Turn]. Tomsk: Izdatel’stvo TGU.
Sorokin, P.A. 2005 (1927). Sotsial’naia mobil’nost’ [Social Mobility]. Мoscow:
Academia; LVS.
Stayton, E., M. Cefkin, and J. Zhang.
2017. Autonomous Individuals in
Кузнецов А.Г. Симметричная антропология технологий: от культур к коллективам...
29
Autonomous Vehicles: The Multiple Autonomies of Self-Driving Cars.
Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings
(1):
92-110.
Stayton, E., and J. Stilgoe. 2020. It’s Time to Rethink Levels of Automation for Self-
Driving Vehicles. IEEE Technology and Society Magazine 39 (3): 13-19. https://
doi.org/10.1109/MTS.2020.3012315
Stilgoe, J.
2017. Machine Learning, Social Learning and the Governance
of Self-Driving Cars. Social Studies of Science
48
(1):
25-56.
Urry, J. 2012. Mobil’nosti [Mobilities]. Мoscow: Praksis.
Urry, J. 2012. Sotsiologiia za predelami obshchestv [Sociology Beyond Societies].
Мoscow: Izdatel’stvo VShE.
Vannini, P., ed. 2009. Material Culture and Technology in Everyday Life: Ethnographic
Approaches. New York: Peter Lang.
Vannini, P., ed. 2009. The Cultures of Alternative Mobilities: Routes Less Travelled.
Farnham: Ashgate.
Vannini, P. 2010. Mobile Cultures: From the Sociology of Transportation
to the Study of Mobilities. Sociology Compass
4
(2):
111-121.
Vannini, P., ed. 2012. Technologies of Mobility in the Americas. New York: Peter
Lang.
Viveiros de Castro, E. 2017. Kannibal’skie metafiziki: rubezhi poststrukturnoi
antropologii
[Cannibal Metaphysics: For a Post-structural Anthropology].
Мoscow: Ad Marginem.
Vozyanov, A.G., A.G. Kuznetsov, and E.G. Laktyukhina. 2017. Submobil’nosti, ili o
mnozhestvennosti rezhimov gorodskikh mobil’nostei [Submobilities, or on the
Multiple Modes of Movement in the City]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 30-43.