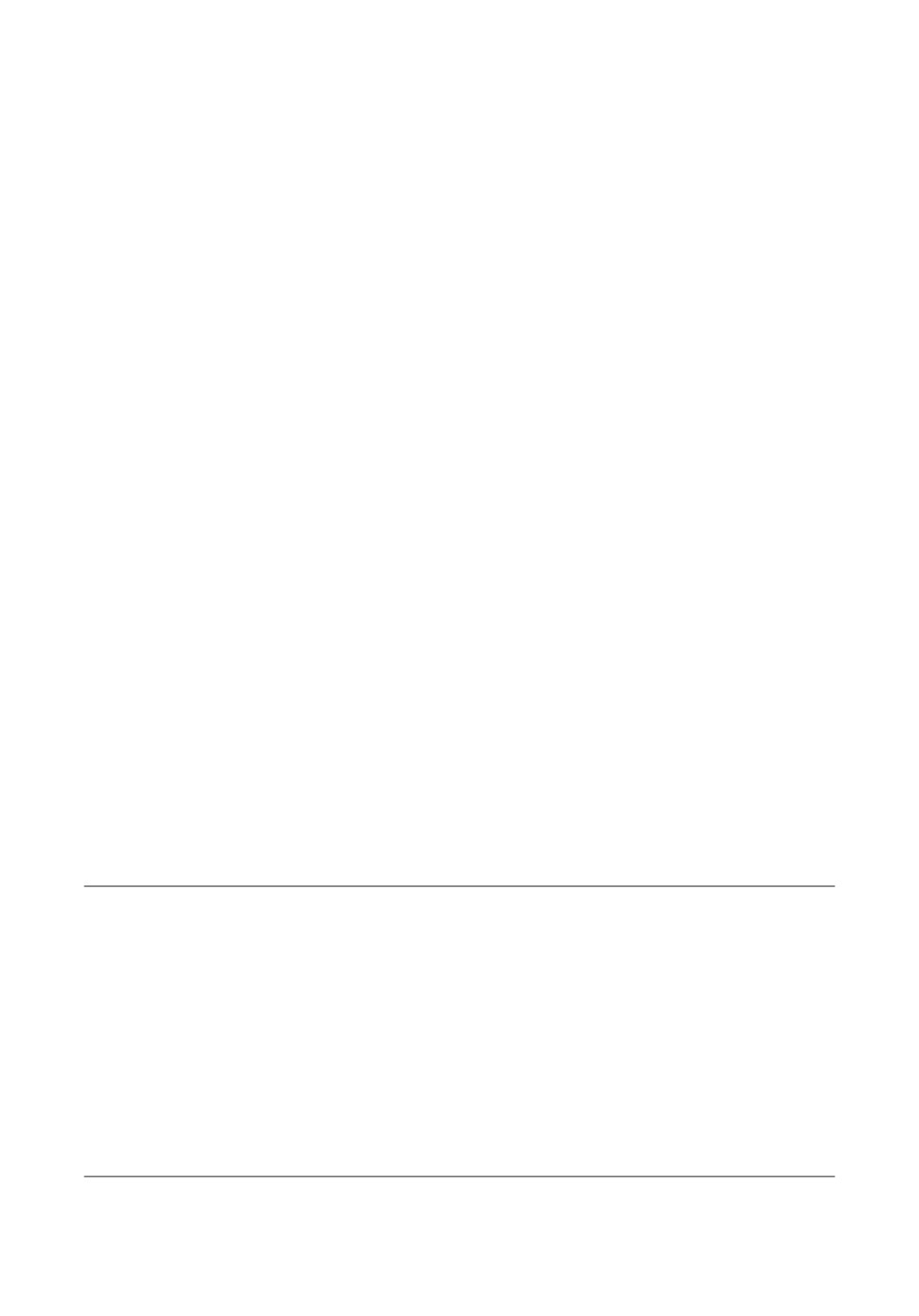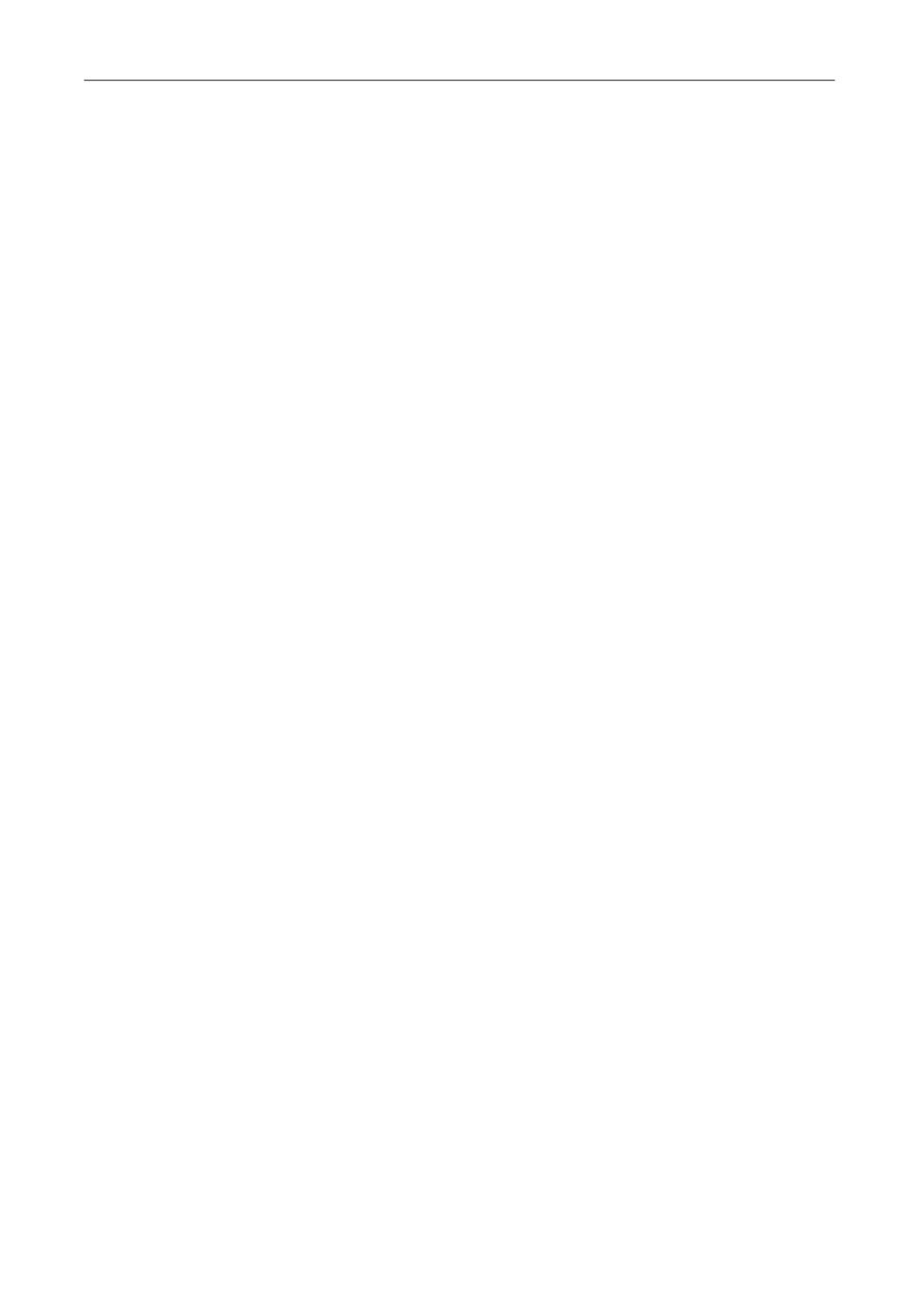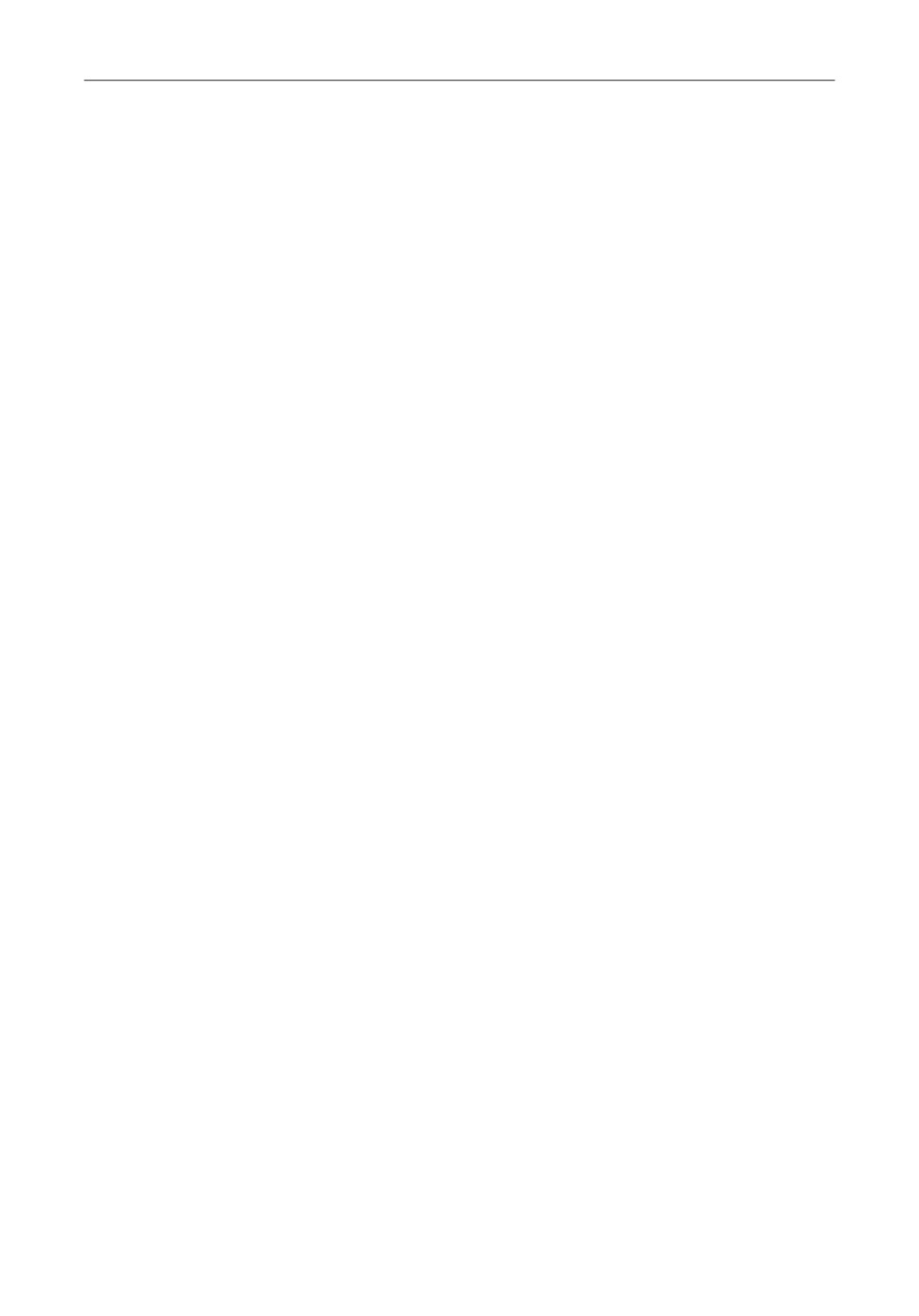КОЛЛЕКТИВНАЯ ТРАВМА И ПАМЯТЬ
ОБ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
К 35-ЛЕТИЮ РАДИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ
Ю.Ю. Белова, М.Э. Муравицкая, Н.М. Мельникова
к. соц. н., ведущий научный сотрудник | Институт прикладных политических иссле-
дований, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
(ул. Мясницкая 18, Москва, 101000, Россия)
m.muravitskaia@hse.ru | аналитик | Институт прикладных политических исследова-
ний, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
(ул. Мясницкая 18, Москва, 101000, Россия)
Надежда Михайловна Мельникова
|
|
nmmelnikova@edu.hse.ru
|
стажер, студент
4 курса образовательной программы
“История” | Институт прикладных политических исследований, Национальный иссле-
довательский университет “Высшая школа экономики” (ул. Мясницкая 18, Москва,
101000, Россия)
Ключевые слова
Чернобыль, травма, коллективная память, онтологическая безопасность, радиационные
риски
Аннотация
Целью исследования является описание механики “чернобыльской” коллективной
травмы (А. Ассман, Я. Ассман) и способов обеспечения онтологической безопасно-
сти (Э. Гидденс) людьми, имеющими опыт проживания на загрязненных радиацией
территориях (на примере Новозыбкова Брянской области и Плавска Тульской обла-
сти). Метод исследования - глубинные интервью. Определено, что люди различными
способами обеспечивают безопасность от радиации, управляя радиационными риска-
ми. Способы отличаются по критериям осознанности риска и проявления активности
относительно его минимизации: 1) замалчивание травмы (А. Ассман) или “вынесе-
Статья поступила 16.05.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 27.10.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Белова Ю.Ю., Муравицкая М.Э., Мельникова Н.М. Коллективная травма и память об аварии на
Чернобыльской АЭС: к 35-летию радиационной катастрофы // Этнографическое обозрение. 2022.
Belova, Yu.Yu., M.E. Muravitskaia, and N.M. Melnikova. 2022. Kollektivnaia travma i pamiat’ ob
avarii na Chernobyl’skoi AES: k 35-letiiu radiatsionnoi katastrofy [Collective Trauma and the Memory
of the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant: 35 Years after the Disaster]. Etnograficheskoe
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
198
Этнографическое обозрение № 3, 2022
ние риска за скобки” (Э. Гидденс) через: а) отрицание риска, когда ничего не делается
для его минимизации; б) отрицание риска и неосознанное управление радиационным
риском; в) признание риска и сознательный отказ от его минимизации; 2) сознательное
управление радиационным риском через признание влияния радиации и его активную
минимизацию.
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ в 2021 г.
овременные исследователи приходят к выводу, что население, прожива-
ющее в зоне действия предприятий атомной индустрии, подвержено вы-
С
сокой заболеваемости, смертности, снижению рождаемости и ожидаемой
продолжительности жизни (Cardis et al. 2006, Калинкин и др. 2021). Радиаци-
онные аварии, которые происходят на этих предприятиях, наносят еще более
серьезный демографический ущерб и длительное время продолжают угрожать
здоровью и безопасности людей, проживающих на загрязненных радиацией
территориях или переезжающих из них (Do 2019). Помимо прямого демографи-
ческого ущерба, подобные катастрофы несут в себе сложное и многофакторное
воздействие, состоящее из биологического воздействия радиации и психоло-
гического стресса сложной структуры (Румянцева, Чинкина 2016: 50). Долго-
срочное биологическое влияние радиационных аварий на физическое здоровье
людей объясняется отложенным эффектом ионизирующего облучения, влияюще-
го на возникновение онкологических заболеваний (Smith, Beresford 2005: 244).
Отмечается, что на загрязненных радиацией территориях суммарная заболевае-
мость населения постоянно возрастает (Яблоков и др. 2016: 128-129). Жители за-
раженной радионуклидами местности имеют большие проблемы со здоровьем и
чаще других обращаются за медицинской помощью (Smith, Beresford 2005: 298).
В свою очередь, психологическое влияние радиационных аварий выражается
в длительном и устойчивом сохранении высокого уровня стресса, психоэмо-
ционального напряжения и тревожности (Smith, Beresford 2005: 298; Мельницкая
и др. 2015: 14; Kwesell 2020; Telukha 2019).
Травматический опыт радиационных катастроф находится в центре вни-
мания многих исследователей (Мельницкая и др. 2015; Моляко 2016; Bromet,
Havenaar 2007; Bromet et al. 2011; Kwesell 2020; Lochard 1996; Zhukova 2015;
Zhukova 2016). Такого рода травмы объясняются особенностью “восприятия ра-
диационного риска и страхом перед последствиями аварии” (Лазарев 1999: 7).
Специфика радиационной катастрофы заключается в том, что, при всей объек-
тивности риска, источник стресса не может быть обнаружен органами чувств
(Румянцева, Чинкина 2016). Непрерывное нахождение человека в среде, кото-
рую невозможно структурировать, снижает его адаптационные возможности.
Ощущение невозможности контроля происходящего делает личные убеждения
жителей загрязненных территорий неустойчивыми (Там же: 55).
Методология исследования
Риски радиационных катастроф надолго оставляют “свой след в социальном
сознании всего общества” (цит. по: Мельницкая и др. 2015: 13; Foster 2002) и с
трудом понимаются и прорабатываются в течение длительного времени (Zhukova
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
199
2015: 58). Так, для многих русских, белорусов и украинцев память о чернобыль-
ской катастрофе как о травмирующем событии стала не столько ограниченным
во времени личным воспоминанием, сколько коллективной памятью нескольких
поколений (Chuchvaha 2020: 5; Marchesini 2017). Примечательно, что на локаль-
ном уровне радиационный риск воспринимался спустя 10 лет после аварии даже
выше, чем в момент катастрофы (Румянцева, Чинкина 2016: 53).
Действительно, травма радиационной аварии не является одномоментным
явлением - она связывает прошлое, настоящее и будущее (Ушакин 2009: 8). Так,
прошлые и нынешние симптомы заболеваний, проблемы и неудачи приписыва-
ются последствиям пережитых токсических катастроф (Edelstein 2003: 68; Мар-
ченко, Тазетдинова 2016: 101), а отложенные эффекты на здоровье формируют
трагические ожидания от будущего. При этом наиболее частыми причинами
для беспокойства являются еще не наступившие заболевания, предполагаемая
продолжительность жизни, а также генетические мутации у потомков (Edelstein
2003: 68). Под угрозой находятся не только оптимистические представления о
будущем, но и вера в возможность формировать их (Ibid.: 80).
Негативные переживания не ограничиваются периодом и территорией про-
изошедшей аварии, они имеют разную продолжительность (Zhukova 2016).
Согласно А. Ассман, долговременность последствий - важный симптом трав-
мы, которая подавляется и не получает должных рефлексии и отражения в кол-
лективной памяти (Ассман 2014: 98-99).
В соответствии с вышесказанным под травмой Чернобыля в данном ис-
следовании понимается не столько сама авария, ставшая точкой отсчета трав-
матического опыта, сколько подавленный и не запечатленный в коллективной
памяти “процесс, который продолжает оказывать воздействие на отношение
людей к своему прошлому, на их восприятие своего настоящего и будущего”
(Ушакин 2009: 8). Коллективная травма заключается в разрыве социальных
связей внутри общества (Erikson 1978). Поскольку же произошедшая ава-
рия лишила людей чувства общности, разрушила сложившиеся социаль-
ные связи, травма Чернобыля действительно носит коллективный характер
(Zhukova 2016).
Коллективная память в данном исследовании понимается в соответствии с
трактовкой М. Хальбвакса как групповая, когда в личных воспоминаниях чело-
век полагается на других, независимо от того, является он свидетелем события
или нет (Хальбвакс 2005). Кроме того, по М. Хальбваксу, необходимость коллек-
тивной памяти обусловлена построением групповой идентичности, когда смысл
того или иного события интерпретируется в интересах группы, тем самым тяго-
тея к мифу и отличаясь от документированной истории (Айерман 2016).
Согласно Я. Ассману, такая коллективная память проявляется в культур-
ной (сакральной, устойчивой, разделяемой большинством) и коммуникативной
(неформальной, неустойчивой) формах. Культурная память направлена на фик-
сирование знаковых моментов прошлого. Она опирается на “символические
фигуры, к которым прикрепляется воспоминание” (Ассман 2004: 54). По мнению
А. Ассман, эти символы обеспечивают “императивную общность воспоминаний
для следующих поколений” (Ассман 2014: 32). Таким образом, места памяти и
особые ритуалы обеспечивают коммеморацию и позволяют будущим поколени-
ям ощущать причастность к историческому событию. Коммуникативная память
как память поколений, насыщенная воспоминаниями, связана “с недавним про-
шлым” (Ассман 2004: 52) и возникает или исчезает вместе с группой носителей.
Как справедливо замечает Р. Айерман, “прошлое не только вспоминается и,
200
Этнографическое обозрение № 3, 2022
соответственно, репрезентируется в языке, но и воскрешается, воображается
через ассоциации с артефактами” (Айерман 2016).
Несмотря на устойчивый травматический опыт радиационной катастрофы
на Чернобыльской АЭС как на индивидуальном, так и на коллективном уровне
(Мельницкая и др. 2015; Chuchvaha 2020; Marchesini 2017), исследователями
отмечается отсутствие ясных коммеморативных практик, направленных на со-
хранение коллективной памяти о катастрофе, в странах СНГ (Метелёва 2017;
Arndt 2012).
Если общество не придает травму огласке, не запечатлевает ее в коллек-
тивной памяти, то она начинает вытесняться (Ассман 2014, 2019). Одним из
способов вытеснения является замалчивание, когда общество накладывает на
травматическое воспоминание “печать запрета, чтобы оно не мешало новой
жизни и формированию новой идентичности” (Ассман 2014: 104). Замалчива-
ние соотносится с тем, что Э. Гидденс назвал “вынесением за скобки” события
(либо риска), нарушающего повседневную рутину (Гидденс 1994: 121, 124).
Подобная реакция на травму связана с «попытками сопротивления “кошмару
истории”, стремлением вернуть миру устойчивость, субъекту - целостность, а
письму - стабильность» (Калинин 2013: 24). Другими словами, замалчивание
является своеобразным способом преодоления “критической ситуации”, когда
травма высвобождается. Поэтому травма может быть не выразима, но при этом
она обнаруживается через практики замалчивания и действия людей по управ-
лению травматическим опытом (Audergon 2004: 19, 21, 23; Dodonova et al. 2019:
158-162). Мы полагаем, что коллективная травма Чернобыля, не получая долж-
ной рефлексии на уровне коммеморативных практик, перестав закрепляться в
культурной и коммуникативной памяти, замалчивается (Ассман 2014) и “выно-
сится за скобки” (Гидденс 1994).
Следует подчеркнуть, что, согласно Э. Гидденсу, катастрофа на ЧАЭС суще-
ственно повлияла на чувство онтологической безопасности населения (Гидденс
1994; Гидденс 2005) и ее вынесение за скобки тесно связано со стремлением
обеспечить безопасность от потенциальных рисков. При этом “опыт безопас-
ности обычно основывается на равновесии между доверием и допустимым
риском” (Гидденс 2011: 153). Доверие позволяет “принять риск”, полагаясь на
других людей и “экспертные системы”, тем самым снижая “градус напряже-
ния” и формируя ощущение онтологической безопасности (Гидденс 1994: 127;
Гидденс 2011: 143). Онтологическая безопасность является результатом сфор-
мированного доверия (Giddens 1991: 92). Это позволяет предположить, что
люди, имеющие опыт проживания на загрязненных радиацией территориях,
замалчивая и вынося за скобки травмирующее событие, обеспечивают прием-
лемость, привычность и рутинизацию радиационного риска через практики до-
верия людям и “экспертным системам”.
В ситуациях нарушения онтологической безопасности люди вынуждены ис-
кать новые ориентиры и изменять систему ценностей (Гидденс 2005). Наряду с
вынесением за скобки события, такой поиск предполагает оценку и минимиза-
цию риска (Гидденс 2011: 143). Поэтому предполагается, что приспособление к
радиационному риску, как реакция на травму Чернобыля, происходит не только
путем замалчивания и вынесения за скобки травмы, а в том числе и через выра-
ботку конкретных поведенческих практик, которые бы отвечали возникшим в
результате аварии условиям среды.
Итак, объектом исследования является коллективная память об аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
201
Предметом исследования выступает коллективная травма и соответствую-
щие ей способы обеспечения онтологической безопасности.
Цель исследования состоит в описании механики коллективной травмы и
типологизации способов обеспечения онтологической безопасности людьми,
имеющими опыт проживания на загрязненных радиацией территориях.
Методы
Исследование коллективной памяти о трагическом потрясении, связанном с
аварией на Чернобыльской атомной электростанции, выполнено в качественной
парадигме и опирается на метод глубинного интервью. Первый этап исследова-
ния предполагал критериальный отбор городов. Контролировалось соответствие
следующим критериям: принадлежность к категории малых городов (Свод пра-
вил 2016); расположение города в зоне чернобыльского радиационного пятна
(Постановление № 1074 2015); причисление города к зоне проживания с правом
на отселение (в России отсутствуют малые города, отнесенные к перечню зон
отчуждения и отселения [Там же]). Перечисленным критериям соответствуют
два малых города (г. Новозыбков Брянской области и г. Плавск Тульской об-
ласти). Следует отметить, что оба города до 2010 г. числились в списке исто-
рических городов и поселений РФ1. Имея статус “исторического поселения”,
город мог рассчитывать на дополнительное финансирование, а также поддержку
и популяризацию культурных и туристских возможностей, развитие экономики
культурного наследия (Материалы 2019). При отборе респондентов мы исходили
из предположения, что люди, проживавшие на момент интервью в этих горо-
дах, и люди, переехавшие к этому моменту в другие населенные пункты, явля-
ются носителями коллективной памяти, сформированной за годы проживания в
Новозыбкове и Плавске. Согласно положениям теории Д. Маниера и У. Хёрста,
их объединяют семантические воспоминания (Manier, Hirst 2008). Таким обра-
зом, выборку составили как пережившие катастрофу на территории городов,
подвергшихся радиационному загрязнению, так и живущие там, но не заставшие
ее респонденты, узнавшие об аварии через других людей, а также покинувшие
Новозыбков и Плавск после продолжительного проживания в этих городах.
Отбор респондентов для интервью осуществлялся через несколько точек
входа в поле: личные контакты; городские группы и паблики популярных соци-
альных сетей (Одноклассники, ВКонтакте); городские посты в блогах (Яндекс.
Дзен). Метод снежного кома сочетался с отбором по месту концентрации по-
тенциальных респондентов в виртуальном пространстве. Такой подход лучше
удовлетворяет требованиям типологической репрезентативности. Всего в ис-
следовании приняло участие 39 человек в возрасте от 16 до 75 лет.
В связи с возникшими к моменту исследования условиями распростране-
ния коронавирусной инфекции, полевая работа велась в дистанционном фор-
мате, что определило технически опосредованный формат интервьюирования.
Интервью проводилось по видеосвязи через приложение, выбранное респон-
дентом (Skype, WhatsApp, Zoom, Discord и др.). Видеосвязь обеспечивала при-
ближение ситуации интервьюирования к естественному общению, поэтому
необходимость в видеозаписи отсутствовала. Для целей транскрибирования
осуществлялась аудиозапись. Исключения в виде телефонных интервью де-
лались в единичных случаях, когда респондент не имел доступа к интернету
или не умел пользоваться приложениями с функцией видеосвязи. Респонденты
202
Этнографическое обозрение № 3, 2022
предупреждались об аудиозаписи разговора и в любой момент могли отказаться
от общения с интервьюером.
Как отмечает Г. Орлова, исследования дискурса о радиации как правило со-
средотачиваются на аспектах секретности, профессиональных рисков и причи-
ненного ущерба (Орлова 2019: 90). В соответствии с методологической пози-
цией данное исследование организовано в перспективе причиненного ущерба.
Кодирование осуществлялось в программе Dedoose по таким осям, как память
о радиационной катастрофе и управление рисками радиационного загрязнения.
Последствия и риски радиационной катастрофы на ЧАЭС
На территории России в зоне чернобыльского радиационного пятна нахо-
дится четыре наиболее затронутые катастрофой региона: Брянская, Тульская,
Орловская и Калужская области. При этом самое выраженное бремя послед-
ствий аварии несут на себе территории Брянской и Тульской областей.
В Тульской области в 2018 г. был отмечен один из наиболее высоких “грубых”
показателей смертности на 100 000 населения (263,9) (Каприн и др. 2019: 133),
а в 2019 г. зафиксирован наивысший отрицательный коэффициент естествен-
ного прироста населения (-8,3) (Окладников и др. 2020: 219). В 2017 г. по
сравнению с 2016 г. прирост случаев злокачественных новообразований со-
ставил 5%, а по сравнению с 2008 г. - 14,2% (Постановление № 239 2019).
В свою очередь, Брянская область, по данным Минздрава, занимает второе ме-
сто среди субъектов Российской Федерации по числу заболевших онкологиче-
скими заболеваниями на 100 тыс. населения (Каприн и др. 2020: 6). По данным
2018 г. наиболее высокий удельный вес опухолей IV стадии был зафиксирован
в Брянской области и составил 28,7% (Каприн и др. 2019: 9). С 2007 по 2017 гг.
среднегодовой темп прироста смертности от злокачественных новообразова-
ний в Брянской области увеличился на 12,2%, тогда как в России он снизился
на 1,6% (Постановление № 275-п 2019).
Вместе с тем по состоянию на январь 2020 г. в Тульской и Брянской об-
ластях сохранилось наибольшее количество населенных пунктов с высоким
уровнем загрязнения цезием-137 (Шершаков и др. 2020). Исследователи утвер-
ждают, что “прогноз содержания цезия-137 в лесной подстилке... в наиболее
загрязненных районах Брянской области на период до 2046 г. свидетельствует
о сохранении высокой степени радиоактивного загрязнения лесов в Красногор-
ском и Новозыбковском районах даже по прошествии более чем 60 лет после
аварии” (Марченко и др. 2020: 16). Важно отметить, что уровень облучения мо-
жет увеличиваться за счет употребления населением “природной продукции”
(например, ягод и грибов). В отличие от сельскохозяйственных угодий, где при-
меняются специальные защитные меры, в дикой природе изменение уровня ра-
дионуклидов происходит естественным, а поэтому долгим путем (Спиридонов
и др. 2007: 202).
В то же время данные официальных органов, отчеты и доклады содержат
информацию об улучшении радиационной обстановки (Болдырева, Овчарова
2016: 54; В ФГБУ “Брянская МВЛ” 18.02.2021; Панов и др. 2019: 26). Как
отмечают специалисты, в настоящее время в Тульской области нет ни одно-
го населенного пункта, где средняя доза облучения населения превышала бы
1,0 мЗв/год. Кроме того, в 96,2% населенных пунктов средняя годовая эффектив-
ная доза радиации составляет менее 0,3 мЗв/год (Болдырева, Овчарова 2016: 54).
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
203
Наряду с этим в СМИ сообщается о проведении локальных коммеморатив-
ных мероприятий (в противовес массовым) с привлечением небольшого числа
участников (Колокола Чернобыля 2016). Одновременно происходит утрата неко-
торыми населенными пунктами Тульской и Брянской областей статусов “зоны
отселения”, “зоны проживания с правом на отселение” и “зоны проживания с
льготным социально-экономическим статусом” (Постановление № 1074 2015).
Таким образом, с одной стороны, статистические и научные данные свидетель-
ствуют о том, что до сих пор сохраняются радиационные риски для здоровья и
социального благополучия жителей упомянутых регионов, а с другой стороны,
на официальном уровне происходит ослабление дискурса о влиянии радиации
на жизнь и здоровье людей.
Наиболее затронутыми аварией в упомянутых регионах являются такие бо-
гатые объектами историко-культурного наследия малые города, как г. Новозыб-
ков Брянской области и г. Плавск Тульской области. Эти города находятся в эпи-
центре чернобыльского радиационного пятна и имеют максимальные значения
радиационного загрязнения цезием-137 среди других городов, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы (Израэль, Богдевич 2009). Несмотря на
это, в зоне радиационного загрязнения по-прежнему проживает большое число
людей, и коллективная память о катастрофе является неотъемлемой частью вос-
приятия происходящего и построения планов на будущее. Уникальность Плав-
ска и Новозыбкова обусловливается и тем, что оба города с течением времени
теряют статусы исторических городов, которые обеспечивали их культурно-
историческое и социально-экономическое развитие. Так, в 2010 г. оба города были
исключены из перечня исторических городов России (Приказ № 418/339 2010).
В 2015 г. Новозыбков был переведен из перечня населенных пунктов “зоны от-
селения” в перечень “зон проживания с правом на отселение” (Постановление
№ 1074 2015). Подобная ситуация приводит к ухудшению экономической си-
туации и является дополнительным источником стресса для людей (Марченко,
Тазетдинова 2016: 105).
Таким образом, нахождение в области радиационного пятна и косвенные
признаки социального неблагополучия свидетельствуют о том, что существуют
риски для физического и психологического здоровья населения, потенциал ко-
торых освещается в разных исследованиях (Марченко и др. 2020: 11; Брук и др.
2019: 66; Белоус и др. 2019: 43).
Коллективная память об аварии и подавленная травма
Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции как часть истории
Новозыбкова и Плавска не рассматривается респондентами в качестве события,
предопределившего их городскую идентичность. Так, первыми респонденты
вспоминают и наделяют большей значимостью другие исторические события
и традиции: “Наш город знаменит тем, что… он старинный. Тут же жили и кня-
зья, и Гагарин” (ПМА: 1-П2), “Я думаю, что известен тем, что раньше выращи-
вали здесь коноплю. Как бы, поэтому у нас и на гербе конопля” (ПМА: 4-Н)
и т.д. Кроме того, когда оценивается нынешняя социально-экономическая ситу-
ация и уровень жизни в городах, то ведущая роль в изменениях отводится дру-
гим факторам (“Проблема в том, что у нас нет в Плавске работы. Соответствен-
но, молодежь уезжает” [ПМА: 9-П]), а поэтому связь катастрофы с текущим
уровнем жизни городов для респондентов не является очевидной.
204
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Как уже было упомянуто, радиационная авария и современная ситуация в
г. Новозыбкове и г. Плавске, согласно теории Я. Ассмана, могут быть объедине-
ны двумя контекстами коллективной памяти - культурной и коммуникативной
(Ассман 2004: 54).
Фиксация прошлого в обрядах, памятниках, мероприятиях, как неотъемле-
мое условие сохранения культурной памяти (Там же: 20-21), постепенно осла-
бевает. Так, респонденты указывают на исчезновение указателей загрязненных
зон, регулярных сводок о радиационном фоне в местных газетах и информаци-
онных табло: “[Раньше] постоянно публиковались в газете уровни. Там адрес,
например, юго-запад города, лес… вот такая окраина и столько, столько…
Потом ходили по домам, замеряли на участках, где какой. У многих людей свои
тоже были. И многие знали, в каких местах в лесу можно ходить, чтобы что-то
собирать, а в каких нет” (ПМА: 2-Н). Практика измерения радиационного фона
и лабораторные исследования стали восприниматься как нетипичные (“Навер-
ное, только те, кто приторговывает, им приходится это делать [прибегать к ме-
рам обеспечения безопасности]” [ПМА: 26-Н]). Перестали носить специализи-
рованный характер медицинские осмотры и диспансеризация, ушли в прошлое
профилактические манипуляции с почвой и зелеными насаждениями, а комме-
моративные мероприятия, приуроченные к памятным датам, стали ограничи-
ваться лишь локальными инициативами в школах, библиотеках и среди ликви-
даторов аварии. Когда вспоминаются памятные даты Чернобыля, говорится, что
приуроченные к ним мероприятия инициируются в большей степени ее непо-
средственными очевидцами (“Ликвидаторы собираются там в каком-то месте,
но, к сожалению, их не так много в городе, в живых я не знаю никого. Вот у
моего папы был коллега, так сослуживец, скажем так, который там был, но он
достаточно быстро умер” [ПМА: 16-Н]).
Респонденты говорят о ликвидаторах как о носителях “живой памяти”, ко-
торые в категориях Я. Ассмана “воскрешают и передают культурный смысл”
чернобыльской катастрофы. Воспоминания, разделяемые современниками,
важные для сохранения коммуникативной памяти, закономерно переживают
трансформацию из “живых” в “опосредованные” (Ассман 2004: 175). Коллек-
тивная память опосредуется еще быстрее по причине ранней смертности этих
людей (“У нас сосед через 2 квартиры, он был ликвидатором. Он был тем, кто
выходил на крышу и собирал этот графит, куски этого графита. Он прожил,
получается, еще 12 лет. У него было 3 вида рака” [ПМА: 4-Н]). Отмечается,
что с уходом из жизни ликвидаторов аварии прерывается трансляция памяти о
катастрофе.
Со сменой поколений и заменой “живой памяти” на “медиальную”, комме-
морация тяготеет не к полюсу истории, а к полюсу мифа, когда авария актуали-
зируется не в виде “исторического воспоминания”, а в виде “мифического об-
новления” (Ассман 2014: 253). В такой ситуации утрачивается личностная связь
с событием, которая переходит на уровень коллективных абстракций, “претер-
певая при этом символическое и мифическое обобщение” (Там же: 252). По-
добным обрастанием мифами поддерживается групповая идентичность, когда
подлинная история о событии переживает трансформацию коллективной па-
мятью. Показателен в этом плане пример с “расстрелом радиационного обла-
ка” над Плавском, о котором сообщается с высокой уверенностью, но без под-
крепления этого знания достоверным источником: “Когда поперла на Москву
последняя чернобыльская туча, ее надо было куда-то посадить. Иначе надо
было переносить Москву. И вот ее, так все говорят, я нигде об этом не читала,
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
205
и вряд ли это будет напечатано. Но говорят все в один голос одно и то же, что
эту тучу над нами расстреляли. То есть ее на нас посадили” (ПМА: 9-П). Таким
образом, тема Чернобыля мифологизируется и становится частью культурной
памяти. Передача коммуникативной памяти о катастрофе затрудняется и от-
сутствием ее артикуляции на уровне местного сообщества. Беседы об аварии
воспроизводятся лишь в небольших социальных общностях (“В основном сей-
час касаемся, наверное, все-таки специфики моей работы, поэтому мы вспо-
минаем непосредственно, когда мы идем и мероприятие проводим, соответ-
ственно, это вот среди коллег. Среди соседей тоже бывает иногда вот вечером,
когда выйдешь… я в частном доме сижу. Выйдешь и постоишь что-нибудь там
поговоришь” [ПМА: 5-П]).
Отдельную проблему для устойчивости коммуникативной памяти составля-
ет миграция населения. Так, сами респонденты считают причиной ослабления
памяти о катастрофе миграционные перемещения на радиационные территории
людей, которые не знают об экологическом ущербе, нанесенном населенным
пунктам. Наиболее очевидно это для города Плавска Тульской области, который,
с одной стороны, обманчиво территориально отдален от эпицентра катастрофы
и поэтому, казалось бы, он не должен быть затронут радиацией, а с другой сто-
роны, находится совсем недалеко от Москвы и притягивает к себе москвичей
как основных покупателей дачных участков и загородных домов (“Раньше те же
москвичи сюда не хотели ехать, потому что именно из-за радиации, но вот окку-
пировали уже все районы вокруг и, соответственно, скупают жилье именно под
дачи” [ПМА: 5-П], “Там практически не осталось местных жителей. Там живут
москвичи. Там все дома поскупили под дачи” [ПМА: 11-П]).
Восприятие радиационных рисков и управление ими
В оценках последствий радиационной катастрофы респонденты делают ак-
цент на индивидуальном причиненном ущербе, коснувшемся привычных по-
вседневных практик и здоровья людей, важных для них лично. Так, респон-
денты с сожалением рассказывали об утрате рекреационных зон, грибных и
ягодных мест, где они привыкли отдыхать с семьей: “На реке Ипуть, там была
туристическая база станкозавода вот. Значит, на все лето, отпуск мы проводили
на этой базе… ну после восемьдесят шестого года, значит, эту базу закрыли, и
потом потихонечку ее начали растаскивать, и на данный момент там просто…
Она в лесу находилась, в лесу на берегу реки. Сейчас от этой базы ничего не
осталось” (ПМА: 18-Н); “Был запрет на посещение леса, речки, молоко не пить,
ни ягоды, ни грибы не собирать. А мы ж привыкли. У нас тут леса очень хоро-
шие. Грибы и ягоды - это всё наше было: черника, земляника и всё это. Ну вот
так. Было очень печальное такое дело” (ПМА: 6-Н).
Помимо прочего, респонденты сообщают о долгосрочном влиянии ради-
ации на здоровье нескольких поколений родственников и знакомых (“Просто
получается 19 год [в 2019 г.], столько много знакомых мне родственников, зна-
комых, вот именно на онкологию, онкология, онкология идет. Но очень много!
Но это же тоже неспроста” [ПМА:13-П]). Ухудшение здоровья, качества жизни
и преждевременная смертность ими связывается с радиационным облучением.
Радиационные риски неизбежно подрывают привычную повседневность, за-
ставляют перестраивать собственную идентичность, а вместе с этим и пробле-
матизировать ее прежнюю конфигурацию. По меткому замечанию И. Калинина,
206
Этнографическое обозрение № 3, 2022
“Любое изменение привычной рутины повышает уровень внешних раздражите-
лей и оборачивается необходимостью подключения дополнительных механиз-
мов защиты” (Калинин 2013). В терминах Э. Гидденса такие механизмы защиты
используются для обеспечения онтологической безопасности (Гидденс 2005).
Примечательно, что респонденты весьма по-разному воспринимают и осознают
радиационные риски: одни отрицают влияние катастрофы, а другие ее всецело
признают. Вероятно, на фоне стресса может происходить как вытеснение обра-
за риска в бессознательное, так и его чрезмерное опосредование содержанием
коллективного сознания (Румянцева, Чинкина 2016: 55). Когда радиационные
риски признаются и проговариваются, могут срабатывать механизмы символи-
ческой компенсации (Калинин 2013), когда же влияние катастрофы отрицается,
травматический опыт не подлежит дискурсивной рационализации и становится
травмирующим опытом (Там же).
Людьми, отрицающими влияние радиационных рисков на здоровье, выра-
жается уверенность в безопасности окружающей среды и продуктов питания.
Они демонстрируют обеспокоенность излишним вниманием к ним как жите-
лям территорий, зараженных радиацией, поскольку считают, что качество их
жизни ничем не отличается от качества жизни людей, проживающих вне ра-
диационного пятна. С позиции концепции А. Ассман это можно объяснить по-
пытками блокировки травмы и дистанцирования от травмирующего события.
Кроме того, хотя люди обычно осведомлены о возможных опасностях, которые
поджидают их в местах проживания, и они вырабатывают стратегии борьбы с
ним (Phillips et al. 2010: 35), восприятие риска ими может быть притуплено:
человек, живущий в постоянном стрессе, склонен недооценивать свой риск,
так как его повседневное существование постоянно требует его преодоления
(Ibid.: 87). Человек также может уходить в “оборонительное игнорирование”
ситуации, полностью отрицая наличие риска (Edelstein 2003: 38). В данном слу-
чае люди обеспечивают собственную безопасность путем отрицания риска, ни-
чего не делая для его минимизации.
В свою очередь, респонденты, признающие сохранение радиационных ри-
сков, жалуются на недостаток соответствующего внимания к ним как к постра-
давшим. При этом иногда их нарративы напоминают “крик души”: “Я полжизни
прожила вот в этой радиации. Кто мне вернет здоровье? У нас был организован
комитет, чтобы… ведь у нас же зона с правом на отселение. Юлечка, повторите,
пожалуйста, вот эти слова! Я хочу их от Вас услышать! То есть Юрьев день!
Понимаете? У нас есть право отселиться, но нет возможности. Нас никто нигде
не ждет. А как это так с правом на отселение? Мы что? На цепи привязаны?”
(ПМА: 9-П). Этой частью респондентов активно выражается чувство неспра-
ведливости и небезопасности. Несправедливость обусловлена и сокращением
льготных выплат: “Все боятся просто, что снимут эти несчастные 700 рублей.
Гробовые, как их у нас называют, и все” (ПМА: 5-П). Чувство небезопасности,
в свою очередь, основано на опасениях, связанных с невозможностью попра-
вить здоровье, с тревогами о радиационном влиянии и тем, что “никто ничего
не делает” и “никому это не нужно” и т.д. Отсюда стремление занять активную
гражданскую позицию и внести свой вклад в минимизацию последствий ката-
строфы и восстановление справедливости для жителей города. Другими слова-
ми, подстраиваясь под стрессовую ситуацию, люди изменяют свои привычки
и практики (перестают пить зараженную воду или пьют, но игнорируют факт
ее загрязненности), снижают уровень чувствительности к изменениям в окру-
жающей среде (привыкают к “новому” вкусу воды) и т.п. (Sonnenfeld 1966: 80).
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
207
Этому типу респондентов соответствуют практики сознательного управле-
ния радиационным риском через признание влияния радиации и его активную
минимизацию. В таком случае чернобыльская катастрофа становится частью
идентичности человека, “абсорбируясь психикой субъекта” (Калинин 2013).
В случае же отрицания рисков, напротив, “динамический баланс между болез-
ненным опытом и идентичностью нарушается, поскольку присвоение этого
опыта угрожает ее целостности” (Там же).
Следует отметить, что между упомянутыми двумя типами респондентов су-
ществует промежуточный тип, характеризующийся либо отрицанием радиаци-
онного воздействия и одновременным обращением к тем или иным способам
защиты от радиационного воздействия, либо признанием риска с сознательным
отказом от его минимизации. Выявление промежуточного типа позволяет гово-
рить о том, что травма носит латентный характер и в терминах А. Ассман дает
о себе знать на языке симптомов (Ассман 2014: 98). В первом варианте проме-
жуточного типа риск не осознается, но проявляется в подсознательной защите
себя от влияния радиации. С одной стороны, риск твердо отрицается: «Никто не
бегает с копытами, никто не бегает с рогами и двумя головами - всё нормально.
Вот. Тоже причём вопросы такие были. Это с разных районов так, с кем обща-
ешься. Это действительно вопросы, которые задавали мне: а не бегают ли у вас
какие-нибудь животные. Вот, как бы, не знаю, может “Сталкера” начитались,
может быть, хотят какие-то диковины, какие-то впечатления. Говорю: “Нет ни-
чего”. Какой-то тут, не знаю, искали туман какой-то... что-то такое. Опять же
это легенды... Нет, ничего не светится, никто не светится. Вот. Всё хорошо у
нас» (ПМА: 17-П). Однако в то же время респонденты указывают на попытки
обезопасить себя от радиационного влияния: “Уже полжизни я пытаюсь отсюда
как-то вырваться, и ничего не получается. Очень тяжело” (ПМА: 17-П). Такой
способ обеспечения онтологической безопасности производится через отрица-
ние риска и неосознанное управление им. Во втором варианте промежуточного
типа риск осознается, но не минимизируется, поскольку признается фаталь-
ность риска, а его избегание становится неосознанным способом рутинизации
повседневности и защиты от травмы. Этот тип обеспечения онтологической
безопасности заключается в признании влияния радиации и сознательном от-
казе от его минимизации. Таким образом, респонденты в любом случае удов-
летворяют потребность в безопасности, рутинизируя практики, или, словами
Э. Гидденса, “укрощая или обуздывая источники подсознательной напряженно-
сти, которые в противном случае полностью поработили бы” их (Гидденс 2005: 19).
При этом в случаях отрицания риска с одновременной его минимизацией трав-
ма становится невыразимой символически.
Доверие к радиационной повседневности и латентная травма
Согласно концепции Э. Гидденса, благодаря рутинизации радиационного
риска люди повышают доверие к повседневности, а именно, к людям и к систе-
мам (символическим знаковым системам или к экспертной системе).
Отсылки к перечисленным типам доверия, упоминаемым Э. Гидденсом,
присутствуют в нарративах респондентов. Прежде всего это проявление чьей-то
заботы о радиационной безопасности семьи, которая выступает “прививкой”,
“дозой доверия” (Гидденс 2011: 48). Так, проверка продуктов питания на ра-
диоактивность воспринимается как забота о ее членах: “У меня обычно мама
208
Этнографическое обозрение № 3, 2022
занимается проверкой [радиоактивности продуктов питания], она заботится о
состоянии своих близких” (ПМА: 24-Н). В результате рождается доверие к кон-
кретному человеку как личное обязательство перед ним (Гидденс 2011: 217), и
тогда удовлетворяется чувство онтологической безопасности. Наиболее четко
себя проявляет доверие к экспертным системам, которое, согласно Э. Гидденсу,
напротив, выражается в “безличных обязательствах” и “опирается на веру в пра-
вильность неизвестных принципов”. В результате признается “допустимость”
риска, что играет ключевую роль для поддержания доверия (Там же: 152). В дан-
ном случае этот тип доверия порождает приемлемость радиационного риска,
заставляет привыкнуть к радиационной ситуации.
Недостаток полной информации, провоцирующий потребность в доверии,
связан с дистанцированием в пространстве и времени (Там же: 25). Таким об-
разом, когда катастрофа все больше темпорально отдаляется от настоящего,
потребность в доверии к знанию о катастрофе только возрастает. Кроме того,
в основе такого доверия лежит знание, в котором обычные люди с высокой ве-
роятностью не разбираются (Там же: 219). В то же время, это все более обо-
стряющееся неведение формирует в терминах Э. Гидденса как “скептицизм”,
так и “почтение”, что делает доверие двойственным: “По официальной версии,
то есть к нам приезжали специалисты из радиологических центров Москвы,
которые замеряли уровень радиации, уровень радиации в пищевых продуктах,
выращенных на нашей территории… Потом из пищевых продуктов лесные
ягоды, грибы. Те же самые уровни радиации в земном покрове, в воде там…
И постановили, что радий, который разлагается более 100 лет, за 30 с чем-то
лет вот он… разложился и радиация упала <...> Для того, чтобы как-то снизить
это все, мы брали этот счетчик и по лесу ходили, собирали. Потом папа в конце
опускал его в корзину, и если пикало не сильно, то мы собирали грибы и ехали
домой. А если пикало сильно, то мы разворачивались и ехали в другой лес”
(ПМА: 4-Н). В приведенном примере отчетливо видно, что несмотря на облада-
ние информацией об удовлетворительной радиационной ситуации, почерпну-
той из “экспертной системы”, респондент одновременно проявляет скептицизм
и продолжает производить замеры радиации в продуктах питания. Однако в то
же время он выражает почтение, показывая, что “официальная версия” системы
им усвоена.
Хотя констатируется доверие к информации об улучшении ситуации и в це-
лом респонденты в это верят, возможность риска не исключается полностью.
На индивидуальном уровне респонденты стараются, с одной стороны, созна-
тельно обезопасить себя, с другой же стороны, отмечают, что лишь воспроиз-
водят традиционные практики, к которым привыкли, потому что так принято в
семье. Они признают, что хотя в целом уже не принято проводить лабораторные
исследования продуктов питания, лично для себя и своей семьи это возможно:
“А так уже продукты никто даже специально не проверяет, даже то, что в ма-
газинах… Проверяем в лабораториях продукты иногда…” (ПМА: 30-Н). То же
самое происходит, когда выражается отношение к безопасности сбора грибов
и ягод, употреблению питьевой воды, купанию в водоемах и т.д.: “Никто не
проверяет [продукты] уже давным давно. У нас такой семейный проверенный
способ. Проверенный тем же счетчиком [Гейгера], ну и варим, и отвариваем эти
грибы дважды” (ПМА: 4-П).
С позиции концепции А. Ассман подобное неосознанное соблюдение риту-
алов по защите себя от воздействия радиации говорит о латентности травмы и
ее индивидуальной терапии (по Э. Гидденсу “минимизации риска”). Следует
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
209
отметить, что такой способ управления риском наиболее устойчиво встреча-
ется в нарративах респондентов и вскрывает проблему замалчивания травмы,
порожденную ее недостаточным отражением в культурной и коммуникативной
памяти новозыбковцев и плавчан. Между тем, для прерывания травматиче-
ской связи между поколениями индивидуальная терапия травмы недостаточна
(Ассман 2014: 99). Важно, чтобы факт травмы был признан на уровне обще-
ственного и политического дискурса.
* * *
Несмотря на ослабление и культурной, и коммуникативной памяти об ава-
рии и ее тридцатипятилетнюю давность, катастрофа до сих пор сохраняет свое
социальное значение, выражающееся в упоминаемых последствиях радиаци-
онного риска и разных способах обеспечения онтологической безопасности.
При этом последствия радиационного риска осмысляются в контексте индиви-
дуального причиненного ущерба здоровью и повседневным привычкам, в про-
тивовес коллективному ущербу.
На фоне устойчивого акцентирования внимания на проблемах со здоровьем,
респонденты весьма по-разному воспринимают радиационные риски в части
обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких. Одни
респонденты отрицают влияние катастрофы, вторые же его признают. И отри-
цающие, и признающие радиационный риск, в свою очередь, отличаются спо-
собами обеспечения онтологической безопасности, которые дифференцируют-
ся по критериям осознанности риска и проявления активности в отношении его
минимизации. В частности, с одной стороны, “травма замалчивается”, а “риск
выносится за скобки”. С другой стороны, радиационный риск осознается и про-
изводится его активная минимизация. В результате удалось выявить четыре
способа обеспечения онтологической безопасности:
- замалчивание травмы или “вынесение риска за скобки” через отрицание
риска, когда ничего не делается для его минимизации;
- замалчивание травмы или “вынесение риска за скобки” через отрицание
риска и неосознанное управление радиационным риском;
- замалчивание травмы или “вынесение риска за скобки” через признание
риска и сознательный отказ от его минимизации;
- сознательное управление радиационным риском через признание влияния
радиации и его активную минимизацию.
Таким образом, восприятие радиационных рисков имеет травматическую ос-
нову, где происходит либо замалчивание травмы и ее латентное проявление, либо
активное управление радиационными рисками. И в том, и в другом случае произ-
водится рутинизация риска, позволяющая снизить “градус напряженности”.
Защищаясь разными способами от рисков и обеспечивая онтологическую
безопасность, респонденты превращают риски радиационного загрязнения в
рутинную повседневность, повышая к ней доверие. Тем самым коллективная
травма замалчивается и “выносится за скобки”.
В основе доверия лежит недостаточная для однозначного восприятия ради-
ационных рисков информация, которая наделяет доверие двойственностью, в
результате чего одновременно проявляются скептицизм и почтение к знанию о
радиационном влиянии.
Хотя коллективная память об аварии в ее культурном и коммуникативном
210
Этнографическое обозрение № 3, 2022
измерениях сохраняется слабо и люди разными способами обеспечивают он-
тологическую безопасность, тем не менее опыт пережитой радиационной
катастрофы для них остается травматичным. Все это позволяет судить об ак-
туальном социальном значении катастрофы на Чернобыльской атомной элек-
тростанции как коллективной травмы.
Благодарности
Мы благодарим участников стажерской программы Института прикладных
политических исследований НИУ ВШЭ А. Подобедову, А. Петревич, А. Усо-
вецкую, А. Ломанову, Н. Кулюлину и других за участие в сборе, транскриби-
ровании и кодировании социологических данных, а также А. Блудову за сбор
эмпирических данных и ценные комментарии, сделанные в ходе подготовки
программы исследования.
Примечания
1 Новозыбков и Плавск являлись историческими городами Брянской и
Тульской областей согласно перечню исторических городов, отраженном в
приложении № 1 к федеральной целевой программе “Сохранение и развитие
архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)”. Но в 2010 г. Приказом
Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 “Об утвержде-
нии перечня исторических поселений” перечень был сокращен, и Новозыбков
и Плавск были исключены из него.
2 Здесь и далее в системе ссылок на полевые материалы цифра обозначает
порядковый номер интервью в полевом архиве авторов, а П/Н - указание на
город записи Плавск/Новозыбков соответственно.
Источники и материалы
В ФГБУ “Брянская МВЛ” 18.02.2021 - В ФГБУ “Брянская МВЛ” провели около
500 исследований по определению содержания радионуклидов в продукции
Калинкин и др. 2021 - Калинкин Д.Е., Тахауов Р.М., Мильто И.В., Самойлова Ю.А.,
Жуйкова Л.Д., Тахауов А.Р., Тахауова Л.Р. 2021. Совершенствование страте-
гии охраны здоровья персонала предприятия атомной индустрии и населения,
проживающего в зоне его действия // Социальные аспекты здоровья населе-
ния 01.04.2021)
Колокола Чернобыля 2016 - Колокола Чернобыля // Правительство Брянской
области.
обращения 07.04.2021)
Материалы 2019 - Материалы парламентских слушаний Совета Федерации
“Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений”.
pdf (дата обращения 01.04.2021)
ПМА - Полевые материалы авторов. Интервью с жителями г. Плавск и г. Ново-
зыбков. Сентябрь 2020 - март 2021.
Постановление № 275-п 2019 - Постановление Правительства Брянской области
от 27 июня 2019 года № 275-п «Об утверждении региональной программы
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
211
Брянской области
“Борьба с онкологическими заболеваниями”». http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200201907040014 (дата обращения
01.04.2021)
Постановление № 1074 2015 - Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 8 октября 2015 года № 1074 “Об утверждении перечня насе-
ленных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязне-
document/420307886 (дата обращения 01.04.2021)
Постановление № 239 2019 - Постановление Правительства Тульской области
от 26 июня 2019 года № 239 «Об утверждении региональной программы
Тульской области “Борьба с онкологическими заболеваниями”». https://docs.
cntd.ru/document/561424790 (дата обращения 01.04.2021)
Приказ № 418/339 2010 - Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ
№ 339 от 29.07.2010 “Об утверждении перечня исторических поселений”.
Свод правил 2016 - Свод правил 42.13330.2016. Градостроительство. Плани-
document/456054209 (дата обращения 01.04.2021)
Научная литература
Айерман Р. Культурная травма и коллективная память // Новое литературное
обозрение. 2016. №. 5. С. 40-67.
Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая по-
литика. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
Ассман А. Забвение истории - одержимость историей. М.: Новое литературное
обозрение, 2019.
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая иден-
тичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры,
2004.
Белоус Н.М. и др. Вероятность получения молока и кормов, не соответствующих
допустимым уровням содержания Cs-137 на территории Юго-Запада Брян-
ской области в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС //
3878-2019-28-3-36-46
Болдырева В.В., Овчарова В.Н. Итоги 30-летнего радиационно-гигиениче-
ского мониторинга на территориях Тульской области, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС //
426X-2016-9-2-48-55
Брук Г.Я., Базюкин А.Б., Братилова А.А., Яковлев В.А. Закономерности фор-
мирования и прогноз доз внутреннего облучения населения Российской
Федерации и его критических групп в отдаленный период после аварии на
Чернобыльской АЭС // Радиационная гигиена. 2019. № 12 (2). С. 66-74.
Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. № 5. С. 107-134.
Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академиче-
ский проект, 2005.
Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011.
Израэль Ю.А., Богдевич И.М. (ред.) Атлас современных и прогнозных аспектов
212
Этнографическое обозрение № 3, 2022
последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях
России и Беларуси. М.: Фонд “Иносфера” - НИА-Природа; Минск: Белкар-
тография, 2009.
Калинин И. Историчность травматического опыта: рутина, революция, репре-
зентация // Новое литературное обозрение. 2013. № 6 (124). C. 18-34.
Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразова-
ния в России в 2018 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ
“НМИЦ радиологии” Минздрава России, 2019.
Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Злокачественные новообразо-
вания в России в 2019 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ
“НМИЦ радиологии” Минздрава России, 2020.
Лазарев В.С. Психоэмоциональные проблемы Чернобыля. Роль средств массо-
вой коммуникации в развитии постчернобыльского психологического не-
благополучия населения // International Journal of Information Sciences for
Decision Making. 1999. No. 3. С. 49-94.
Марченко Т.А., Радин А.И., Раздайводин А.Н. Ретроспективное и современное
состояние лесных территорий приграничных районов Брянской области,
подвергшихся радиоактивному загрязнению // Радиационная гигиена. 2020.
Марченко Т.А., Тазетдинова М.Н. Социально-психологические проблемы граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС //
3878-2016-25-4-100-110
Мельницкая Т.Б., Рыбников В.Ю., Хавыло А.В. Социально-психологические
проблемы жизнедеятельности и стрессовые реакции населения в отдален-
ном периоде после аварии на Чернобыльской АЭС. СПб.: Политехника-
Сервис, 2015.
Метелёва Т.О. Чернобыль: историческая травма и иррациональный страх (укра-
инская специфика преодоления) // Трансформація стратегічної стабільності
та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових
праць / За заг. ред. A.I. Кудряченка. Киïв: Інститут всесвітньої історії НАН
України, 2017. С. 275-293.
Моляко В.А. Психологические последствия чернобыльской атомной катастро-
фы // Развитие личности. 2016. № 2. С. 32-52.
Окладников С.М. и др. (ред.) Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. М.: Росстат, 2020.
Орлова Г.А. Дискурсивное дозирование излучения // Laboratorium: журнал
социальных исследований.
2019.
№ 11
(1).
С.
doi.org/10.25285/2078-1938-2019-11-1-82-119.
Панов А.В. и др. Радиоэкологическая оценка сельскохозяйственных земель и
продукции юго-западных районов Брянской области, загрязненных ра-
дионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Радиаци-
онная гигиена.
2019.
426X-2019-12-1-25-35
Румянцева Г.М., Чинкина О.В. Проблемы восприятия и субъективной оценки
риска от ионизирующей радиации // Радиационная гигиена. 2016. № 2 (3).
С. 50-58.
Спиридонов С.И., Алексахин Р.М., Фесенко С.В., Санжарова Н.И. Чернобыль и
окружающая среда // Радиоэкология. 2007. № 47 (2). С. 196-203.
Ушакин С. “Нам этой болью дышать”? О травме, памяти и сообществах // Травма:
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
213
пункты / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2009. С. 5-41.
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас.
2005. № 2-3 (2). С. 40.
Шершаков В.М. и др. (ред.) Радиационная обстановка по территории
России и сопредельных государств в 2019 г. Обнинск: ФГБУ НПО
“Таифун”, 2020.
Яблоков А.В., Нестеренко В.Б., Нестеренко А.В., Преображенская Н.Е. Черно-
быль: последствия катастрофы для человека и природы. М.: Товарищество
научных изданий КМК, 2016.
Audergon A. Collective Trauma: The Nightmare of History // Psychotherapy and
Arndt M. Memories, Commemorations, and Representations of Chernobyl:
Introduction // Anthropology of East Europe Review. 2012. No. 30 (1). P. 1-12.
Bromet E.J., Havenaar J.M. Psychological and Perceived Health Effects of the
Chernobyl Disaster: a 20-year Review // Health Physics. 2007. No. 93 (5).
Bromet E.J., Havenaar J.M., Guey L.T. A 25 Year Retrospective Review of the
Psychological Consequences of the Chernobyl Accident // Clinical Oncology.
Cardis E. et al. Cancer Consequences of the Chernobyl Accident: 20 Years on //
Journal of Radiological Protection. 2006. No. 26 (2). Р. 127-140. https://
doi.org/10.1088/0952-4746/26/2/001.
Chuchvaha H. Memory, Trauma, and the Maternal: Post-apocalyptic View of the
Chernobyl/Chornobyl/Charnobyl Nuclear Disaster. East/West // Journal of
Do X.B. Fukushima Nuclear Disaster Displacement: How far People moved and
determinants of Evacuation Destinations // International Journal of Disaster Risk
Dodonova V. et al. Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of
Historical Trauma // Analele Universităţii din Craiova. Istorie. 2019. No. 10.2 (36).
P. 153-164.
Edelstein M.R. Contaminated Communities: Coping With Residential Toxic Exposure.
N.Y.: Routledge, 2003.
Erikson K.T. Everything in its Path. N.Y.: Simon & Schuster, 1978.
Foster R.M.P. The Long-Term Mental Health Effects of Nuclear Trauma in Recent
Russian Immigrants in the United States // American Journal of Orthopsychiatry.
Giddens A. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age.
Stanford, Calif.: Stanford university press, 1991.
Kwesell A. Trauma, Self-stigma, and Visual Narrative: Participatory
Research in Shinchimachi, Fukushima, following Japan’s
2011 Nuclear
Disaster
// Visual Communication.
2020. No.
0
(0). Р.
doi.org/10.1177/1470357220912458.
Lochard J. Psychological and Social Impacts of Post-accident Situations: Lessons
from the Chernobyl Accident. Austria: Berger, 1996.
Manier D., Hirst W. A Cognitive Taxonomy of Collective Memories // Cultural
Memory Studies: an International and Interdisciplinary Hand-book. N.Y.:
De Gruyter, 2008. Р. 253-262.
Marchesini I. A New Literary Genre. Trauma and the Individual Perspective in Svetlana
214
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Aleksievich’s Chernobyl’skaia Molitva // Canadian Slavonic Papers. 2017. No. 59
Phillips B.D., Thomas D.S.K., Fothergill A., Blinn-Pike L. (eds.) Social Vulnerability
to Disasters. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010.
Smith J.T., Beresford N.A. (eds.) Chernobyl - Catastrophe and Consequences.
Chichester: Praxis publishing Ltd, 2005.
Sonnenfeld J. Values in Space and Landscape // Journal of Social Issues. 1966.
Telukha S. Traumatic Chernobyl: Women’s Memories // Wrocławski Rocznik Historii
Zhukova E. Whose Responsibility? Chernobyl as Trauma Management in Belarus
and Ukraine. PhD Dissertation. Aarhus. 2015.
Zhukova E. From Ontological Security to Cultural Trauma: The Case of Chernobyl
in Belarus and Ukraine // Acta Sociologica. 2016. No. 59 (4). Р. 332-346. https://
doi.org/10.1177/0001699316658697.
R e s e a r c h A r t i c l e
Belova, Yu.Yu., M.E. Muravitskaia, and N.M. Melnikova. Collective Trauma and
the Memory of the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant: 35 Years after
the Disaster [Kollektivnaia travma i pamiat’ ob avarii na Chernobyl’skoi AES:
k 35-letiiu radiatsionnoi katastrofy]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 3,
pp.
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS
Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya St. 18, Moscow,
101000, Russia)
National Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya St. 18,
Moscow, 101000, Russia)
National Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya St. 18,
Moscow, 101000, Russia)
Keywords
Chernobyl, trauma, collective memory, ontological security, radiation risks
Abstract
The article draws on the concepts of Aleida and Jan Assmann and Anthony Giddens
to enquire into the mechanics of Chernobyl’s collective trauma and the ways of
maintaining ontological security by people who have lived in areas contaminated by
radiation. It focuses on the cases of Novozybkov, the Bryansk region, and Plavsk, the
Tula region, where a range of in-depth field interviews were conducted. We show the
different strategies employed by different people in order to keep safe in the radiation
zones and manage radiation risks. These strategies differ both in the patterns of
acknowledgement of risks and in the choice of actions taken toward the minimization
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
215
of risks; these are 1) the silencing of traumas (Assmann) or the bracketing out of
risks (Giddens) either through a) the denial of the risk, when nothing is done to
minimize it, or b) through the denial of the risk followed by unconscious efforts at
managing it, or else c) by the acceptance of the risk followed by the deliberate refusal
to act toward minimizing it; and 2) the conscious managing of the risks through the
acknowledgement and acceptance of the impact of radiation and active efforts taken
to reduce or minimize it.
References
Audergon, A. 2004. Collective trauma: The nightmare of history. Psychotherapy and
Assmann, A. 2014. Dlinnaia ten’ proshlogo: Memorial’naia kul’tura i istoricheskaia
politika [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics].
Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
Assmann, A. 2019. Zabvenie istorii - oderzhimost’ istoriei [Oblivion of history -
obsession with history]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
Assmann, J. 2004. Kul’turnaia pamiat’. Pis’mo, pamiat’ o proshlom i politicheskaia
identichnost’ v vysokikh kul’turakh drevnosti [Cultural Memory. Writing, Memory
of the Past and Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. Moscow:
Yazyki slavianskoi kul’tury.
Belous, N.M., et al.
2019. Veroiatnost’ polucheniia moloka i kormov, ne
sootvetstvuiushchikh dopustimym urovniam soderzhaniia Cs-137 na territorii
Yugo-Zapada Brianskoi oblasti v otdalennyi period posle avarii na Chernobyl’skoi
AES [The Likelihood of Obtaining Milk and Feed that does not meet the Permissible
Levels of Cs-137 in the South-West of the Bryansk Region in the Remote Period
after the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant]. Radiatsiia i risk 28 (3):
Boldyreva, V.V., and V.N. Ovcharova.
2016. Itogi
30-letnego radiatsionno-
gigienicheskogo monitoringa na territoriiakh Tul’skoi oblasti, podvergshikhsia
radioaktivnomu zagriazneniiu v rezul’tate avarii na Chernobyl’skoi AES [Results
of 30-year Radiation and Hygienic Monitoring in the Territories of the Tula
Region exposed to Radioactive Contamination as a Result of the Accident at the
Chernobyl Nuclear Power Plant]. Radiatsionnaia gigiena 9 (2): 48-55. https://
doi.org/10.21514/1998-426X-2016-9-2-48-55
Bromet, E.J., and J.M. Havenaar. 2007. Psychological and Perceived Health Effects
of the Chernobyl Disaster: a 20-year Review. Health physics 93 (5): 516-521.
Bromet, E.J., J.M. Havenaar, and L.T. Guey. 2011. A 25-year Retrospective Review
of the Psychological Consequences of the Chernobyl Accident. Clinical Oncology
Bruk, G.Y., et al. 2019. Zakonomernosti formirovaniia i prognoz doz vnutrennego
oblucheniia naseleniia Rossiiskoi Federatsii i ego kriticheskikh grupp v
otdalennyi period posle avarii na Chernobyl’skoi AES [Regularities of Formation
and Forecast of Doses of Internal Exposure of the Population of the Russian
Federation and its Critical Groups in the Remote Period after the Accident at the
Chernobyl Nuclear Power Plant]. Radiatsionnaia gigiena 12 (2): 66-74. https://
doi.org/10.21514/1998-426X-2019-12-2s-66-74
Cardis, E., et al. 2006. Cancer Consequences of the Chernobyl Accident: 20 Years on.
4746/26/2/001.
216
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Chuchvaha, H. Memory, Trauma, and the Maternal: Post-apocalyptic View
of the Chernobyl/Chornobyl/Charnobyl Nuclear Disaster. East/West.
Do, X.B. 2019. Fukushima Nuclear Disaster Displacement: How far People moved
and determinants of Evacuation Destinations. International Journal of Disaster
Dodonova, V. et al. 2019. Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of
Historical Trauma. Analele Universităţii din Craiova. Istorie 10.2 (36): 153-164.
Edelstein, M.R. 2003. Contaminated Communities: Coping With Residential Toxic
Exposure. New York: Routledge.
Erikson, K.T. 1978. Everything in its Path. New York: Simon & Schuster.
Eyerman, Р. 2016. Kul’turnaia travma i kollektivnaia pamiat’ [Cultural Trauma and
Collective Memory]. Russian Studies in Literature 5: 40-67.
Foster, R.M.P. 2002. The Long-Term Mental Health Effects of Nuclear Trauma
in Recent Russian Immigrants in the United States. American Journal of
Giddens, A. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern
Age. Stanford, Calif.: Stanford university press.
Giddens, E. 1994. Sud’ba, risk i bezopasnost’ [Fate, Risk and Safety]. THESIS 5:
107-134.
Giddens, E. 2005. Ustroenie obshchestva. Ocherk teorii strukturatsii [The Constitution
of Society. Outline of the Theory of Structuration]. Moscow: Akademicheskii
proekt.
Giddens, E. 2011. Posledstviia sovremennosti [The Consequences of Modernity].
Moscow: Praksis.
Kalinin, I.
2013. Istorichnost’ travmaticheskogo opyta: rutina, revoliutsiia,
reprezentatsiia [Historicity of Traumatic Experience: Routine, Revolution,
Representation]. Russian Studies in Literature 6 (124): 18-34.
Kwesell, A. 2020. Trauma, Self-stigma, and Visual Narrative: Participatory Research
in Shinchimachi, Fukushima, following Japan’s 2011 Nuclear Disaster. Visual
Lazarev, V.S. 1999. Psikhoemotsional’nye problemy Chernobylia. Rol’ sredstv massovoi
kommunikatsii v razvitii postchernobyl’skogo psikhologicheskogo neblagopoluchiia
naseleniia [Psychoemotional Problems of Chernobyl. The Role of Mass Media in
the Development of Post-Chernobyl Psychological Ill-being of the Population].
International Journal of Information Sciences for Decision Making 3: 49-94.
Lochard, J. 1996. Psychological and Social Impacts of Post-accident Situations:
Lessons from the Chernobyl Accident. Austria: Berger.
Manier, D., and W. Hirst. 2008. A Cognitive Taxonomy of Collective Memories.
In Cultural memory studies: an international and interdisciplinary hand-book,
edited by A. Erll, and A. Nünning, 253-262. New York: De Gruyter.
Marchenko, T.A., A.I. Radin, and A.N. Razdaivodin. Retrospektivnoe i sovremennoe
sostoianie lesnykh territorii prigranichnykh raionov Brianskoi oblasti,
podvergshikhsia radioaktivnomu zagriazneniiu
[Retrospective and Current
State of Forest Areas of the Border Areas of the Bryansk Region, exposed to
Radioactive Contamination]. Radiatsionnaia gigiena
13
doi.org/10.21514/1998-426X-2020-13-2-6-18
Marchenko, T.A., and M.N. Tazetdinova.
2016. Sotsial’no-psikhologicheskie
problemy grazhdan, podvergshikhsia radiatsionnomu vozdeistviiu vsledstvie
avarii na ChAES [Socio-psychological Problems of Citizens exposed to Radiation
Белова Ю.Ю. и др. Коллективная травма и память об аварии на Чернобыльской АЭС...
217
as a Result of the Chernobyl Accident]. Radiatsiia i risk 25 (4): 100—110. https://
doi.org/10.21870/0131-3878-2016-25-4-100-110
Marchesini, I. 2017. A New Literary Genre. Trauma and the Individual Perspective
in Svetlana Aleksievich’s Chernobyl’skaia Molitva. Canadian Slavonic Papers
59 (3-4): 313-329.
Mel’nitskaia, T.B., V.Yu. Rybnikov, and A.V. Khavylo.
2015. Sotsial’no-
psikhologicheskie problemy zhiznedeiatel’nosti i stressovye reaktsii naseleniia
v otdalennom periode posle avarii na Chernobyl’skoi AES [Socio-psychological
Problems of Life and Stress Reactions of the Population in the Remote Period
after the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant]. St. Petersburg:
Politekhnika-Servis.
Meteleva, T.O. 2017. Chernobyl’: istoricheskaia travma i irratsional’nyi strakh
(ukrainskaia spetsifika preodoleniia) [Chernobyl: Historical Trauma and Irrational
Fear (Ukrainian Specifics of Overcoming)]. Transformatsіia strategіchnoї
stabіl’nostі ta problemi iadernoї bezpeki na pochatku ХХІ stolіttia: zbіrnik
naukovikh prats’ [The Transformation of Strategical Stability and the Problems
of Nuclear Safety in the Early 21st Century: A Collection of Articles], edited by
A.I. Kudriachenko, 275-293. Kyev: Institut vsesvitnoi istorii NAN Ukraini.
Moliako, V.A.
2016. Psikhologicheskie posledstviia chernobyl’skoi atomnoi
katastrofy [Psychological Consequences of the Chernobyl Nuclear Disaster].
Razvitie lichnosti 2: 32-52.
Okladnikov, S.M., et al. (eds.) 2020. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskie
pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic Indicators]. Moscow: Rosstat.
Orlova, G.A. 2019. Diskursivnoe dozirovanie izlucheniia [Discursive Dosage of
Radiation]. Laboratorium: zhurnal sotsial’nykh issledovanii 11 (1): 82-119.
Panov, A.V., et al. 2019. Radioekologicheskaia otsenka sel’skokhoziaistvennykh
zemel’ i produktsii yugo-zapadnykh raionov Brianskoi oblasti, zagriaznennykh
radionuklidami v rezul’tate avarii na Chernobyl’skoi AES [Radioecological
Assessment of Agricultural Land and Products of the Southwestern Districts of
the Bryansk Region contaminated with Radionuclides as a Result of the Accident
at the Chernobyl Nuclear Power Plant]. Radiatsionnaia gigiena 12 (1): 25-35.
Phillips, B.D., D.S.K. Thomas, A. Fothergill, and L. Blinn-Pike (eds.) 2010. Social
Vulnerability to Disasters. Florida: CRC Press.
Rumiantseva, G.M., and O.V. Chinkina. 2016. Problemy vospriiatiia i sub’ektivnoi
otsenki riska ot ioniziruiushchei radiatsii [Problems of Perception and Subjective
Risk Assessment from Ionizing Radiation]. Radiatsionnaia gigiena 2 (3): 50-58.
Shershakov, V.M., et al. (eds.) 2020. Radiatsionnaia obstanovka po territorii Rossii i
sopredel’nykh gosudarstv v 2019 g. [Radiation Situation on the Territory of Russia
and Neighboring States in 2019]. Obninsk: FGBU “Nauchno-proizvodstvennoe
ob’edinenie “Taifun”.
Smith, J.T., and N.A. Beresford (eds.) 2005. Chernobyl - Catastrophe and
Consequences. Chichester: Praxis publishing Ltd.
Sonnenfeld, J. 1966. Values in Space and Landscape. Journal of Social Issues 22 (4):
Spiridonov, S.I., et al. 2007. Chernobyl’ i okruzhaiushchaia sreda [Chernobyl and the
Environment]. Radioekologiia 47 (2): 196-203.
Telukha, S. 2019. Traumatic Chernobyl: Women’s Memories. Wrocławski Rocznik
Historii Mówionej 9: 119-136.
218
Этнографическое обозрение № 3, 2022
Ushakin, S., and E. Trubina (eds.) 2009. Travma: punkty [Trauma: Points]. Moscow:
Novoe literaturnoe obozrenie.
Halbwachs, М. 2005. Kollektivnaia i istoricheskaia pamyat’ [Collective and Historical
Memory]. Neprikosnovennyj zapas 2-3 (2): 40.
Yablokov, A.V., V.B. Nesterenko, A.V. Nesterenko, and N.E. Preobrazhenskaya.
2016. Chernobyl’: posledstviia katastrofy dlia cheloveka i prirody [Chernobyl:
Consequences of the Catastrophe for Humans and Nature]. Moscow:
Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK.
Zhukova, E. 2015. Whose Responsibility? Chernobyl as Trauma Management in
Belarus and Ukraine. PhD Dissertation. Aarhus.
Zhukova, E. 2016. From Ontological Security to Cultural Trauma: The Case of
Chernobyl in Belarus and Ukraine. Acta Sociologica 59 (4): 332-346. https://
doi.org/10.1177/0001699316658697.