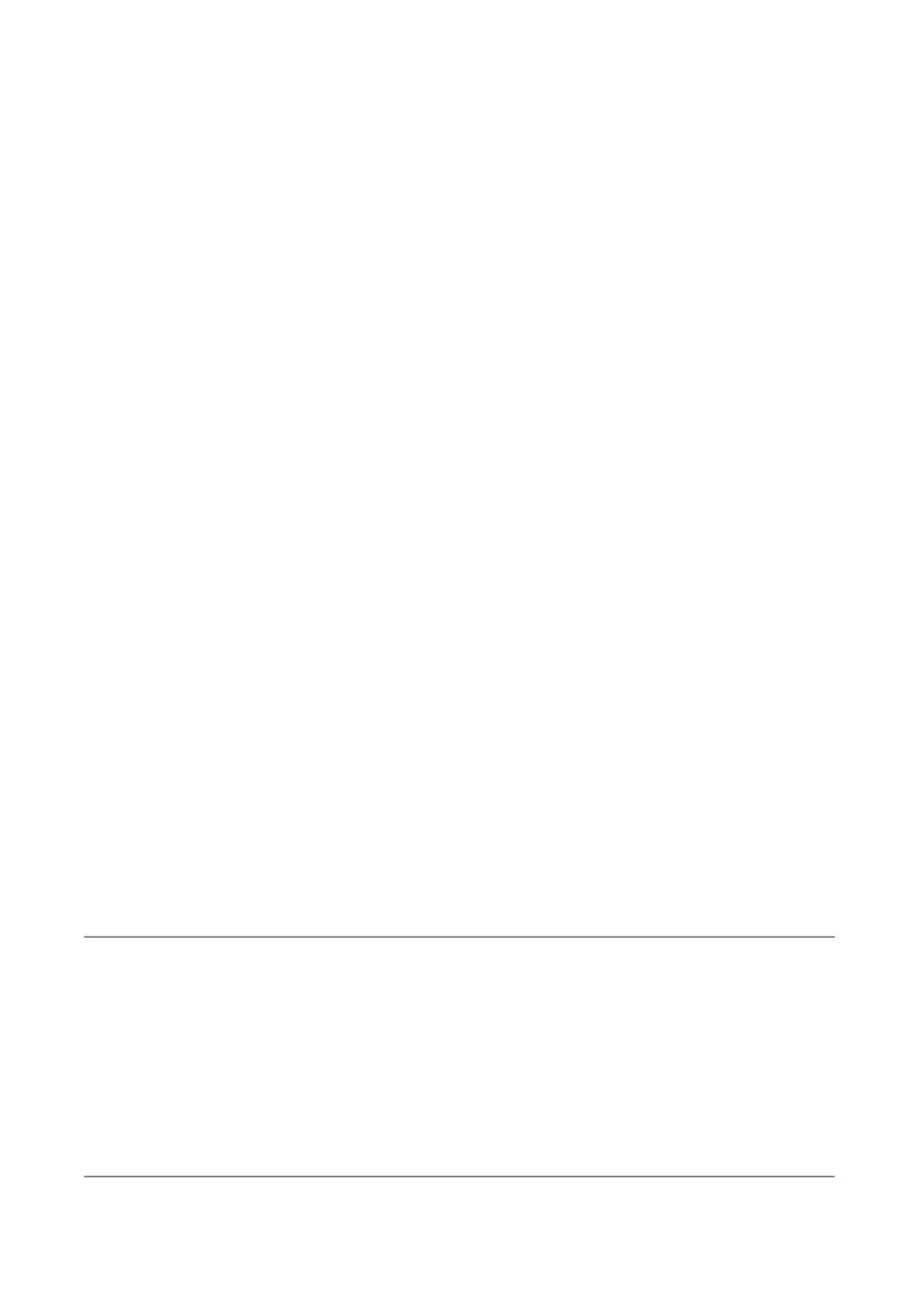ИСТОРИЯ НАУКИ
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩИННЫХ ИНСТИТУТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКЕ
П.И. Костогрызов
к. и. н., старший научный сотрудник | Институт философии и права УрО РАН (ул. Софьи
Ковалевской 16, Екатеринбург, 620990, Россия)
Ключевые слова
Латинская Америка, община, общинные исследования, политическая антропология,
антропология права, community studies
Аннотация
Исследование общинных институтов давно стало одной из важных областей антропо-
логии. Большой массив литературы посвящен, в частности, латиноамериканским об-
щинам - как сельским, включая традиционные общины коренных народов, так и возни-
кающим в урбанизированных и полуурбанизированных зонах. В статье дается краткий
обзор развития - от зарождения в 1920-1930-е годы до наших дней - латиноамерикан-
ских общинных исследований. Автор характеризует современное состояние изучения
общинных институтов в регионе в зарубежной антропологии, выделяя несколько на-
правлений в рамках латиноамериканских community studies. В отечественной латино-
американистике тема общинных институтов занимает периферийное место. Советская
наука имела определенные достижения в ее разработке, но методологически была огра-
ничена догматизированной версией марксизма. В последнее десятилетие латиноамери-
канские общинные исследования в России несколько активизировались.
Информация о финансовой поддержке
[проект AZ 04/KF/20]
аждое этнографическое исследование той или иной человеческой общно-
сти предполагает изучение присущих ей форм социальной организации.
К
Но, как правило, для антропологов социальные институты всегда остают-
ся лишь одним из аспектов изучаемой культуры, причем не всегда приоритет-
ным. Тип социальной организации, с которым им приходится встречаться чаще
всего, - община. Однако в течение длительного времени институт общины
как таковой изучался скорее историками и социологами, нежели этнографами.
Обращение последних к этому предмету началось около 100 лет назад в рам-
Статья поступила 01.11.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 27.11.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов в современной латиноамериканистике //
EDN: HXMTIY
Kostogryzov, P.I. 2022. Izuchenie obshchinnykh institutov v sovremennoi latinoamerikanistike
[Research on Community Institutions in Contemporary Latin American Studies]. Etnograficheskoe
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
110
Этнографическое обозрение № 4, 2022
ках сформировавшейся на стыке социологии и этнографии научной программы
“общинные исследования” (community studies).
Считается, что community studies возникли в США в конце 1920-х годов.
Первой работой, которую обычно относят к этому направлению, стала книга
Р. и Х. Линд “Миддлтаун: исследование американской культуры” (“Middletown:
A Study in American Culture”) (R. Lynd, H. Lynd 1929). Авторы поставили целью
изучить социально-экономические, культурные, религиозные, институциональ-
ные и иные аспекты жизни типичного американского города (Манси, шт. Ин-
диана). Книга имела огромный успех, получила продолжение (R. Lynd, H. Lynd
1937) и породила целый научный жанр - Middletown studies. Затем появились
аналогичные исследования в Британии и Ирландии, а также в колониальных
странах, прежде всего в Африке. Интересно, что если этнография/антрополо-
гия изначально была нацелена на изучение “чужих” обществ и лишь позднее ее
методологический инструментарий стал применяться для изучения обществ, к
которым принадлежали сами исследователи, то с community studies получилось
наоборот: сначала они фокусировались на собственном социуме, а затем уже на
иных обществах - традиционном объекте внимания этнографии. Это объясня-
ется тем, что изобретателями нового научного жанра были социологи, которые
ставили перед собой в первую очередь социологические вопросы. Тем не менее
сразу же возникла необходимость в применении и этнографических методов,
прежде всего включенного наблюдения. Таким образом, community studies изна-
чально возникли как междисциплинарные многоаспектные исследования жиз-
ни локальных сообществ.
Разумеется, не каждое общинное исследование есть обязательно исследо-
вание самой общины как социального института. К. Гирц отмечал: “Место ис-
следования не есть предмет исследования. Антропологи исследуют не деревни
(племена, города, поселения…) - они исследуют в деревнях” (Гирц 2003: 30).
С этим тезисом можно было бы согласиться, если бы его автор использовал
“не только” или “не всегда” вместо категоричного “не” - иногда антропологи
изучают в том числе и деревни, и даже города. В рамках данной статьи нас ин-
тересуют именно те работы жанра общинных исследований, объектом которых
является сама община как форма социальной организации или отдельные ее
органы, выполняющие определенные функции.
Учитывая, что английское community имеет более широкое значение, чем
русское “община”, и что не всякое сообщество, способное стать предметом
антропологического исследования, является общиной, очевидно, что не все,
попадающее в категорию community studies, может быть названо по-русски
“общинным исследованием” или “изучением общин”. Однако именно в лати-
ноамериканистике сложилось мощное направление исследований общины как
социального института.
Классическая традиция этнографического изучения первобытных народов
Южной Америки для понимания феномена общины дает очень немного. Принад-
лежавшие к этой традиции исследователи, сосредотачиваясь на других проблемах,
касались темы общины лишь вскользь. Так, К. Леви-Стросс, изучавший систе-
мы родства аборигенных племен Амазонии и Оринокии, делал особый акцент на
специфике дуальной организации, а не на общей характеристике общественного
устройства. Наибольшее внимание этому устройству уделил П. Кластр. В работе
“Общество против государства” (Clastres 1974) с глубоким психологизмом под-
робно проанализирована внутренняя динамика отношений власти и подчинения
в племенах тупи-гуарани, описан феномен “пророков”-караи, появление которых
накануне встречи с западной цивилизацией свидетельствовало о назревшем
кризисе, знаменовавшем начало важного сдвига в социально-политической ор-
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
111
ганизации у этих народов. Но и П. Кластр, характеризуя общины тупи-гуара-
ни, не пошел дальше отнесения их к “экзогамным демам” по классификации
Дж. Мердока (Murdock 1949). С подобных позиций ведутся и современные эт-
нографические исследования коренных народов Амазонии и Оринокии, в том
числе отечественные (см., напр.: Матусовский 2019).
Таким образом, объектами общинных исследований в Латинской Америке
(как и в случае североамериканских community studies) с самого момента их воз-
никновения стали не изолированные человеческие коллективы, сохранившие в
относительной неприкосновенности архаические социальные институты, а об-
щины - будь то аборигенные, метисные, креольские или афроамериканские, -
в той или иной степени включенные в жизнь современных социумов соответ-
ствующих стран и поэтому ни с какой точки зрения не могущие рассматривать-
ся как “первобытные”.
Направление латиноамериканских общинных исследований начало форми-
роваться в Мезоамерике, и хотя у его истоков стояли в основном ученые из
США, материалом для их работ послужили данные, собранные в Мексике и Гва-
темале. Первым образцом этого жанра в регионе считается работа Р. Редфилда
“Тепостлан - мексиканская деревня” (“Tepoztlán - A Mexican Village”), вышед-
шая в 1930 г. (Crow 2017: 10). В 1930-е годы американский антрополог С. Такс
открыл для мировой науки “систему должностей” - оригинальную структуру
институтов самоуправления в общинах мезоамериканских индейцев и метисов,
известную также под названиями “майордомия”, “религиозно-политическая
иерархия” и др. (Tax 1996) Изучение этого феномена породило самостоятель-
ное ответвление общинных исследований с собственной научной традицией,
конкурирующими подходами, продолжающее интенсивно развиваться вплоть
до настоящего времени (см. обзор в: Korsbaek 1996).
За чуть менее чем 100 лет своего развития латиноамериканские общинные
исследования прошли определенную эволюцию. Перуанские этнографы К. Де-
грегори, Р. Пахуэло и Ф. Феррейра выделяют четыре периода в изучении об-
щинных институтов в Андах (Ferreira, Isbell 2016: 12). Хотя периодизация ос-
нована на материалах этнографии Перу и имеет отношение прежде всего к этой
стране, ее можно распространить на весь макрорегион, поскольку общинные
исследования в Латинской Америке в целом испытывали одни и те же интел-
лектуальные влияния и прошли через последовательное доминирование сменя-
ющих друг друга одних и тех же методологических концепций; возможны лишь
небольшие различия в определении временных рамок отдельных периодов в
разных странах:
- “ранние исследования” - до начала 1930-х годов. Исследовательский ин-
терес, как это часто бывает, стимулировался политическими процессами. В это
время организованное индейское движение впервые стало не эпизодическим
(главным образом в форме восстаний), а постоянно действующим фактором ла-
тиноамериканской политики. Начавшиеся в ряде стран (прежде всего в Мекси-
ке и Перу) аграрные реформы предполагали юридическое признание сельских
общин (в первую очередь индейских, но не только), существование которых до
того просто игнорировалось государством. Когда политический истеблишмент
обратил внимание на этот “новый” социальный феномен, он стал “видимым” и
для образованного общества латиноамериканских стран и началось его научное
познание;
- “золотой век” - 1930-1960-е годы. Активизация общинных исследований
в 1930-х годах связана не только с открытиями антропологов из США в Ме-
зоамерике, но и с возникновением в межвоенный период интеллектуального
течения индихенизма (индеанизма), в рамках которого помимо культурных и
112
Этнографическое обозрение № 4, 2022
политических проблем (занимавших основное место) разрабатывались и неко-
торые научные, в частности, касающиеся традиционных социальных институ-
тов, существовавших у коренного населения Латинской Америки.
В дальнейшем индихенизм в разных проявлениях играл все возрастающую
роль в общественно-политической жизни региона, в том числе и в науке, и ак-
тивизация общинных исследований в значительной степени была обусловле-
на его влиянием. Общинные исследования велись по всей Латинской Америке.
Для работ, написанных в 1930-1960-х годах, была характерна высокая степень
политической ангажированности. Большинство латиноамериканских авторов,
обращавшихся к этой теме, принадлежало к левому политическому лагерю, по-
этому, как и русские народники несколькими десятилетиями ранее, они рас-
сматривали крестьянскую общину под углом зрения якобы заключенных в ней
потенций к преодолению капитализма и переходу к социализму (Мариатеги
1963; и др.);
- “великая трансформация” - 1960-1980-е годы. Работы этого периода харак-
теризуются поворотом от национал-романтизма “золотого века” к марксистско-
му экономизму при сохранении эссенциалистского подхода в этнографических
вопросах. В то же время, учитывая, что марксизм был не насаждаемой сверху
идеологией, как в СССР, а сознательным выбором (пусть часто и совершаемым
под воздействием интеллектуальной моды), ученые Западного полушария были
более свободны в своем поиске, не ограничивая его жестко очерченными рам-
ками канонизированной советским обществоведением схемы развития и разло-
жения общины. В частности, исследования 1970-1980-х годов показали, что со-
временная сельская община в Латинской Америке - не результат непрерывного,
идущего с первобытности процесса социальной эволюции, классообразования
и т.д., а зачастую продукт гораздо более поздних событий и явлений. Множе-
ство, если не большинство, существующих общин возникло в колониальный и
даже постколониальный периоды;
- “тематическая диверсификация” - 1980-1990-е годы. Кризис и последу-
ющий распад мировой социалистической системы, начавшийся вслед за ними
неолиберальный поворот, охвативший большинство стран Латинской Америки,
повлияли и на научную мысль региона. Ослабли позиции марксизма как основы
методологии, появились новые научные школы и направления.
Периодизация Дегрегори-Пахуэло-Феррейры заканчивается 1990-ми года-
ми, но мы можем добавить, что начало ХХІ в. стало в целом продолжением
последнего этапа: закрепились и развиваются наметившиеся тогда тенденции
к диверсификации тем и подходов. В качестве внешних факторов, воздейству-
ющих на латиноамериканские общинные исследования, добавились кризис не-
олиберализма, “левый поворот” во многих государствах региона и активиза-
ция политических движений коренных народов. Повышению интереса ученых
к общинным институтам в Латинской Америке способствовало и расширение
юридического признания этих институтов в конституциях и законодательстве
ряда стран (Костогрызов 2017). Поворот государственных структур лицом к
общинам, законодательное закрепление общинной автономии в различных сфе-
рах, признание собственного права общин - все это стимулировало изучение
коммунитарных институтов и практик, прежде всего в юридической и полити-
ческой антропологии.
Благодаря развитию интернета активизировались научные коммуникации,
ускорился обмен идеями, что привело к росту количества публикаций. Нега-
тивные для значительной части латиноамериканских социумов последствия не-
олиберальных реформ стимулировали возрождение интереса к марксизму, что
позволило ему частично отвоевать утраченные в 1990-е годы позиции. В целом
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
113
же термин “диверсификация” вполне применим и к современной ситуации в
латиноамериканских общинных исследованиях.
Одной из осевых тем для этого научного направления был и остается по-
иск дефиниции самого понятия общины и ее определяющих признаков, а также
выработка типологии общин. Надо отметить, что проблема дефиниций и типо-
логий в любой области социально-гуманитарного знания относится к разряду
вечных, поэтому вряд ли стоит ожидать ее окончательного решения. Так, совре-
менные исследователи И. Гонсалес и Э. Салас поставили перед собой задачу
найти “общий знаменатель, позволяющий рассматривать ту или иную группу
как общину” (González de la Fuente, Salas Quintanal 2012: 47). В качестве тако-
вого они в итоге предложили понятие “коммунальный проект” - совокупность
общих целей и интересов, которые преследуют люди, живущие в определенных
географических и политических границах, объединенные в общину и создаю-
щие соответствующие институты (Ibid. 2012: 46). Трудно назвать эту идею от-
крытием, но, с другой стороны, нельзя с ней не согласиться.
И. Гонсалес и Э. Салас определяют общину как
социальную группу, как правило, проживающую на определенной территории и харак-
теризующуюся в первую очередь тем, что взаимоотношения ее членов по большей части
канализируются институтами, призванными генерировать, поддерживать и воспроизво-
дить сцены взаимодействий, т.е. наборы ролей, в исполнении которых задействовано
наибольшее возможное число соседей (Ibid.: 45-46).
Едва ли это определение удовлетворит всех, но оно импонирует тем, что
подчеркивает очень важную характеристику общины: в отличие от государ-
ственной или муниципальной администрации, базирующейся на привлечении
ограниченной команды профессионалов, общинные институты могут стабиль-
но существовать и быть эффективными только при условии вовлеченности
большинства членов общины в их деятельность.
Трудность с дефиницией и классификацией общины состоит еще и в том,
что этот институт не остается неизменным, он постоянно трансформируется
под воздействием идущих в обществе процессов, приспосабливаясь к меняю-
щейся реальности. И. Гонсалес и Э. Салас справедливо отмечают, что в резуль-
тате происходящей в регионе модернизации “некоторые общинные институты
исчезают, тогда как другие, напротив, усиливаются” (Ibid: 47-48). Возможно
поэтому некоторые авторы вообще отказались от попыток всеобъемлющих де-
финиций и пошли по пути номинальных определений, дающих возможность
просто очертить рамки объекта своего исследования. Так, Ф. Феррейра во вве-
дении к коллективной монографии, подводящей итоги многих десятилетий из-
учения крестьянских общин в Андском регионе, оговаривает, что под общиной
в данном контексте он “имеет в виду территориальные и административные
единицы, формируемые деревнями с соответствующими землями и населени-
ем, расположенные в высокогорье Анд” (Ferreira, Isbell 2016: 4). Однако такой
подход отнюдь не единственный в латиноамериканских общинных исследова-
ниях, в целом не испытывающих недостатка в попытках теоретического осмыс-
ления изучаемых феноменов и построения их научных моделей. Предлагаются
и реальные дефиниции общины, например, бразильский ученый А. Волкмер
определяет ее как “социальное объединение, связанное одним географическим
пространством и характеризующееся общностью интересов и собственной
идентичностью” (Wolkmer 1991).
На рубеже 1940-1950-х годов мексиканский антрополог Ф. Камара выдви-
нул концепцию двух типов общин: центростремительной и центробежной. Об-
щины первого типа, по его мнению, гомогенны, традиционны, ориентированы
114
Этнографическое обозрение № 4, 2022
на сохранение сложившегося порядка, в них преобладает коллективизм, а благо
общины превалирует над интересами отдельных индивидов. Тогда как “центро-
бежные” общины гетерогенны, слабо интегрированы, подвержены изменениям,
в них приоритет отдается интересам индивидов или отдельных групп, а не об-
щины в целом (Cámara Barbechano 1996: 70).
В 1950-е годы Э. Вольф на основе сравнительных исследований в Мезоаме-
рике и на о. Ява ввел понятие “замкнутая крестьянская община-корпорация” -
“относительно автономная экономическая, социальная, языковая и политико-ре-
лигиозная система” (Wolf 1957: 11). “Корпоративность” означает, что община
четко отграничивает своих членов от лиц, не входящих в нее, и гарантирует
определенный набор прав и привилегий для первых, а “замкнутость” - что она
стремится быть максимально независимой от “большого” общества. Согласно
Э. Вольфу, этот тип общины сформировался у автохтонного населения в ответ
на вызовы колонизации и служит своего рода защитным механизмом коренных
культур перед лицом угроз, исходящих от чуждых социальных и экономических
институтов. Э. Вольф подчеркивает отличие этих общин от креольских и ме-
тисных общин, которые строились как открытые по отношению к “большому”
обществу, прежде всего за счет ориентации на национальные и международные
рынки сельскохозяйственной продукции (Ibid.).
Р. Редфилд в работах 1960-х годов сформулировал концепцию “малой об-
щины” как «гомогенной, самодостаточной, обеспечивающей своих членов “от
колыбели до могилы” и медленно меняющейся», где “путь одного поколения
повторяет путь предшествующего” (Redfield 1960: 4). Признавая, что такая об-
щина представляет собой лишь идеальный тип, он расположил реальные об-
щины на длинной шкале выраженности этих качеств (Ibid: 5) - от коллективов
охотников-собирателей и кочевых скотоводов, которые в наибольшей степени
соответствуют идеалу, до фронтирных и городских сообществ, являющихся, по
его мнению, гетерогенными и несамодостаточными.
Всплеск, можно даже сказать взрыв, интереса к общинным институтам в
Латинской Америке произошел на рубеже ХХ и ХХІ вв. Толчок ему дали уже
упомянутые процессы конституционализации и легализации общин, начавши-
еся во многих странах региона именно в 1990-х годах, а также мексиканские
события, а именно неосапатистское движение в Чьяпасе, ворвавшееся не только
в национальную, но и в мировую повестку в 1994 г. В последние 25-30 лет из-
под пера как латиноамериканских ученых, так и их коллег из Европы, США и
Канады вышло огромное количество научной литературы, посвященной иссле-
дованию общин. Как отмечалось выше, по самому своему характеру это транс-
дисциплинарная область, поэтому работают в ней не только антропологи, но
даже работы антропологов нельзя назвать “чисто антропологическими”. Свой
вклад в изучение общин вносят социологи, политологи, юристы и др., тем не
менее во всех этих исследованиях неизменно присутствует антропологический
компонент.
Вследствие такого многогранного мультидисциплинарного интереса к ла-
тиноамериканским общинным исследованиям в них выделилось несколько те-
матических направлений. Одно из них рассматривает общину прежде всего как
социальную рамку, которая позволяет сохранять и реализовывать индигенность
или иную культурную идентичность, отличную от общенациональной. При
этом, как было оговорено выше, объектом изучения становятся не этносы-и-
золяты, а основная масса коренного населения, в достаточной степени вписан-
ного в общекультурный контекст латиноамериканских социумов, но при этом
сохранившего собственные языковую и культурную идентичности. Авторы,
придерживающиеся данной парадигмы, подчеркивают своеобразие присущего
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
115
автохтонным культурам мировидения, его “исконность”, укорененность в ду-
ховных, социальных и хозяйственных практиках, восходящих к временам дале-
ких предков, т.е. к доколумбовой эпохе (Ordoñez Cifuentes 2008; Fernández Osco
2009; и др.). Важным открытием ученых этого направления стало установление
того факта, что общинная структура сама по себе способна не только сохранять
традиционные идентичности, но и порождать новые. В частности, в работах
перуанского юриста и антрополога Р. Иригойен показано, как возникновение в
горных регионах Перу во второй половине 1970-х годов новой формы общин-
ной организации - сельских патрулей (исп. rondas campesinas) вместо давно
распавшихся старых общинных институтов помимо социальной мобилизации
крестьянства повлекло за собой еще и важные изменения в самоидентифика-
ции местного населения. Если до возникновения патрулей оно определяло себя
как “крестьян” или “индейцев” (исп. campesinos используется в обоих значе-
ниях), то на базе этой организации сформировалась “идентичность рондерос”
(исп. identidad rondera) - особое самосознание, связанное с принадлежностью
к сельским патрулям. Как любая идентичность, она предполагает противопо-
ставление “мы - они”, которое в данном случае строится вокруг правосудия
как справедливости, отправление которого является основной, хотя и далеко не
единственной задачей патрулей (Yrigoyen Fajardo 2002: 35).
Другие авторы видят в общинных институтах преимущественно инстру-
мент сопротивления (Starn 1999; Fumerton 2001; Korsbaek 2011; Mandujano
Estrada 2014; Lizárraga Aranibar, Vacaflores Rivero 2014; и др.). Вообще, кате-
гория сопротивления занимает весьма значимое место в латиноамериканском
дискурсе - как общественно-политическом, так и общественно-научном. Речь
при этом идет о противостоянии различных групп населения или “народа” в
целом как “колониальности власти” (Quijano 1997), так и разнообразным фор-
мам насилия, постоянно присутствующим в регионе. Особенно актуальна тема
сопротивления для стран, в которых недавно завершились или продолжаются
до сих пор внутренние вооруженные конфликты, таких, например, как Колум-
бия (Rudqvist, Anrup 2013; Llano Franco et al. 2019). Внимание колумбийских
исследователей привлекают, в частности, так наз. мирные общины, провоз-
гласившие нейтралитет в ходе внутреннего вооруженного конфликта и отка-
завшиеся допускать на свою территорию его участников, независимо от того,
какую сторону они представляют. Классическим примером этого направления
в латиноамериканских общинных исследованиях можно считать работу Э. Сан-
доваля об индейцах наса (Sandoval Forero 2008). В последнее десятилетие вы-
шло большое количество публикаций, посвященных вооруженной самообороне
мексиканских общин, противостоящей наркокартелям (Fuentes Díaz, Fini 2018;
Gasparello 2018; и др.). Как известно, организованная преступность в стране
приобрела силу, сравнимую с силой государства, которое ведет с криминалом
настоящую войну. В этих условиях многие локальные общины вынуждены во-
оружаться, чтобы защитить жизни и имущество своих членов от орудующих на
территории страны банд.
Третье направление фокусирует исследовательский интерес на присущей
общине функции социальной самоорганизации, благодаря которой локальные
сообщества в латиноамериканских странах демонстрируют не только способ-
ность адаптироваться к быстро меняющимся социально-экономическим и по-
литическим обстоятельствам, но и высокую стрессоустойчивость в условиях
слабости государственных институтов (Salvador Rios 1983; Palomino Flores
1984; Adrián Ambía 1989; и др.). Краткая, но информационно и интеллектуально
насыщенная работа С. Ковалевского (Kowalewski 2003) характеризует эволю-
цию общины в одном относительно небольшом регионе Мексики - в Оахаке, но
116
Этнографическое обозрение № 4, 2022
на длинной временной дистанции - на протяжении 3,5 тыс. лет. Такой подход
позволил автору убедительно продемонстрировать, что
община никогда не была самодовлеющей, примордиальной или полностью автономной -
ни в Оахаке, ни, вероятно, где-либо еще… Как и социальные образования более низкого и
более высокого уровней - домохозяйства, семьи, кланы, государства, - локальные группы
формируются и получают те или иные функции в соответствии с контекстом (Kowalewski
2003: 17).
На примере Оахаки С. Ковалевский показал, как общинные структуры воз-
никали, укреплялись или ослабевали, приобретали и утрачивали определенные
функции, распадались и возрождались - в зависимости от исторических обсто-
ятельств.
Еще одно направление общинных исследований в Латинской Америке раз-
вивается в русле антропологии права1. В центре его внимания такие функции
общинной организации, как установление и поддержание социального поряд-
ка, урегулирование конфликтов, предотвращение противоправного поведения
и т.д., а непосредственным объектом изучения являются органы общинного
правосудия. Значительная часть ученых этого направления работает в концеп-
туальных рамках теории правового плюрализма. В конце ХХ - начале ХХI в.
в большинстве стран региона начался процесс конституционализации юриди-
ческого плюрализма (Костогрызов 2017), т.е. общинное право и институты об-
щинной юстиции получили признание на конституционном и законодательном
уровнях, что дало толчок количественному росту исследований этой темы.
За последние десятилетия вышло значительное число работ по юридиче-
ской антропологии латиноамериканской общины. Особую ценность, на наш
взгляд, представляет многотомное издание об общинной юстиции в Перу и
Эквадоре, ставшее итогом многолетних полевых исследований большого ко-
личества ученых из нескольких стран (Brandt, Franco 2006, 2007; Vintimilla
Saldaña et al. 2007; Franco, Gonzales 2009; Brandt 2013), а также двухтомник
под общей редакцией Б. ди Соузы Сантуша, также собравшего сильный ин-
тернациональный авторский коллектив (de Sousa Santos, Exeni Rodríguez 2012;
de Sousa Santos, Grijalva 2012). Н. Эспиноса проследил процесс формирования
общинных структур, в том числе институтов общинного правосудия, в слож-
ном и подчас трагическом взаимодействии с партизанскими формированиями
ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии) в зоне относительно не-
давней колонизации в Колумбии (Espinosa 2003, 2010, 2015, 2016).
Общинное право, как и любое живое общественное явление, развивается
вместе с социумом, находя новые ответы на новые вызовы. На это справедливо
указывают многие ученые, работающие над проблемой общинной юстиции в
латиноамериканских странах:
…коренные народы и сельские жители андских стран сохранили свои системы права и
практики разрешения споров. Эти системы не “растворились” в ходе ассимиляции и ин-
теграции индейцев в “большое” общество; напротив, они адаптировались и развивались
во взаимодействии с господствующей культурой. В результате возникли новые нормы и
процедуры, а также новые институты общинной юстиции - как, например, крестьянские
патрули в Перу. Речь идет не об отсталости, не о каком-то атавизме или реакционном
явлении, а о коллективном и демократическом действии, имеющем целью гарантировать
порядок, мир и справедливость (Brandt, Franco 2006: х).
Разумеется, между обозначенными направлениями общинных исследований
не существует непроницаемых границ. Большинство научных работ, посвящен-
ных общине в Латинской Америке, затрагивает не одну тему. Так, практически
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
117
всегда тесно переплетаются проблемы сопротивления и сохранения идентич-
ности, поддержания правового и социального порядка и самоорганизации. Тем
не менее в каждом исследовании есть главная, осевая, проблема, вокруг кото-
рой выстраивается авторский нарратив, и это позволяет отнести ту или иную
публикацию к одному из выделенных нами направлений латиноамериканских
общинных исследований.
Особняком в этом ряду стоят работы, посвященные сапатистскому движе-
нию в мексиканском штате Чьяпас. Хотя определенное внимание в них уде-
ляется структуре и деятельности органов общинного самоуправления, главное
место занимают все-таки иные проблемы, поэтому этот пласт исследований,
на наш взгляд, должен рассматриваться отдельно, и в своем обзоре мы его не
затрагиваем.
В отличие от зарубежной, отечественная наука до сих пор не уделила латино-
американским общинным исследованиям того внимания, которого они, на наш
взгляд, заслуживают. Практически единственная, вышедшая в советское вре-
мя монография, посвященная латиноамериканской общине, - “Община в Перу.
Очерк социально-экономического развития” И.К. Самаркиной (Самаркина
1974). Другие советские латиноамериканисты, если и затрагивали эту тему, то
лишь “по касательной”, в связи с иными проблемами, такими, например, как
положение сельских трудящихся, особенности традиционной политической
культуры, индейский вопрос (Шемякин 2019). Книга И.К. Самаркиной содер-
жит обширный экскурс в историю перуанской общины времен Империи инков
и колониального периода, подробно характеризует социально-экономические
процессы в сельском Перу первого столетия независимости страны, а основное
внимание уделяет развитию общины в ХХ в.
При всех своих несомненных достоинствах работа И.К. Самаркиной отме-
чена неизбежной печатью своего времени. Представления советского обще-
ствоведения об общине были ограничены жесткими рамками догматическо-
го марксизма, в соответствии с которыми эта форма социальной организации
должна была проходить строго определенные этапы развития в строго опреде-
ленной последовательности, эволюционируя от раннеродовой общины охотни-
ков и собирателей через позднеродовую общину земледельцев и скотоводов к
соседской, а затем разлагаясь под воздействием процессов классообразования.
При этом любая община, обнаруживаемая где бы то ни было историками или
этнографами, априори рассматривалась как существующая непрерывно со вре-
мен первобытности, и в ней исследователям следовало выявлять признаки раз-
ложения и пережитки более ранних форм.
По этому предписанному пути вынуждена была следовать и И.К. Самар-
кина, временами вступая в противоречия с приводимыми ею же фактами и
собственными промежуточными выводами. Так, в начале книги о “разложении
общинной организации” говорится как об очевидном факте, не нуждающем-
ся в доказательстве, хотя в следующей же фразе сообщается, что “в некото-
рых случаях на базе общин создавались производственные кооперативы” (тут
же следует оговорка - “буржуазные по своей природе”) (Самаркина 1974: 4).
А ниже автор пишет, что “происходит существенное изменение традиционной
структуры общины, ее функциональных связей, от одних функций она отказы-
вается, другие видоизменяются, возникают новые. И все-таки община сохраня-
ется, ее традиционная структура продолжает существовать, хотя и в новых фор-
мах” (Там же: 172). Эти формы описываются на предыдущих и последующих
страницах монографии. В частности, И.К. Самаркина рассказывает не только о
трансформации общин в кооперативы различных типов, но и о том, как некото-
рые общины становятся аналогами профсоюзов, защищающих трудовые права
118
Этнографическое обозрение № 4, 2022
своих членов, работающих на шахтах, плантациях или в публичном секторе
(Там же: 167), и о возникновении в городах “клубов” общинно-земляческого
типа из недавних крестьян, оказывающих выходцам из деревень разнообраз-
ную помощь в социализации (поиск работы, проведение развлекательных ме-
роприятий, материальная и прочая поддержка) (Там же: 153). Наконец, автор
пишет о том, что в ХХ в. число общин в Перу не уменьшалось, а наоборот, рос-
ло и что большинство общин Косты и Монтаньи (прибрежной и высокогорной
частей страны) относительно недавнего происхождения - они появились после
1920 г., и связано это было с изменением государственной политики, вследствие
которого крестьянам стало выгодно организовываться в общины и регистриро-
вать их в органах власти.
При всем этом, однако, автор характеризует “значительное, возможно по-
давляющее число перуанских общин” как “распавшиеся” или “формальные”
(Там же: 163), т.е. как “ненастоящие” общины. На чем же основан такой вывод?
Дело в том, что с марксистской точки зрения “полноценной” является только
такая община, которая обладает земельной собственностью (а еще лучше - про-
водит регулярные переделы земли между своими членами). Большинство же
перуанских общин это качество давно утратило: “…практически вся пахотная
земля и в большинстве случаев пастбища перешли в частную собственность.
В общем владении остались леса и оросительные системы” (Там же). Это в
марксизме рассматривается как несомненный признак “разложения” общины.
Явным признаком ее разложения считалось и пресловутое социальное рассло-
ение общины, т.е. выделение в ней богатых и бедных, предпринимателей и на-
емных работников, на котором И.К. Самаркина (как и положено историку-марк-
систу) делает особый акцент, трактуя его как “трансформацию традиционной
структуры в классовую” (Там же: 169). Но при этом автор не игнорирует и такие
особенности социального строя перуанской общины, которые подчеркивают ее
своеобразие на фоне “классической” крестьянской общины в России и Европе.
В частности, в монографии описана иерархическая структура “сложных” об-
щин (состоящих из нескольких поселений с собственными органами самоу-
правления), для которой характерны неравноправные отношения, строящиеся
по расовому принципу: деревни, населенные метисами, занимают доминирую-
щее положение, а индейские - подчиненное (Там же: 168).
Узко-аграрный подход марксистской науки к проблеме общины приводил к
тому, что из ее поля зрения практически полностью выпадали общинные инсти-
туты в урбанизированной среде. Городские общины изучались только в рамках
истории Древнего мира и Средних веков, в обществах Модерна община рассма-
тривалась априори как структура крестьянского социума. Между тем именно
Латинская Америка (хотя, конечно, далеко не только она) дает интереснейшие
и важнейшие для понимания общественных процессов примеры функциониро-
вания коммунитарных институтов в городе.
Таким образом, советская школа исследования общины (это касается не
только латиноамериканистики) была весьма продуктивна в сборе и системати-
зации фактической информации и зачастую приходила к интересным и научно
значимым промежуточным выводам, но, подходя к необходимости делать ши-
рокие теоретические обобщения, оказывалась беспомощной и не могла сказать
ничего, что уже не было бы сказано “классиками марксизма-ленинизма”. Раз-
умеется, это не вина ее, а беда -результат не недостатка собственных идей, а
существовавших ограничений свободы научного поиска.
Между тем отечественная наука имеет собственную давнюю традицию
общинных исследований, свободную от марксистской догматики. В много-
численных работах2 русских ученых ХIХ - начала ХХ в., принадлежавших
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
119
к разным научным школам, которые советская историография маркировала
обобщающим термином “немарксистские”, показано, что община не развива-
ется однолинейно, в соответствии с некой универсальной схемой, верной для
всех времен и народов, а возникает, разрушается, возрождается, изменяет-
ся в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. Разнообразие
ее форм определяется потребностями и условиями жизни людей, которые ее
составляют, и не может быть сведено к заранее предписанному набору ва-
риантов. Разумеется, эти выводы сделаны на материалах России и Западной
Европы, что не умаляет их теоретической значимости. Подробный обзор этих
работ содержится в монографии известного индолога Л.Б. Алаева (Алаев 2016),
который, опираясь на достижения дореволюционных общиноведов и данные
своевременной науки об истории общины в различных регионах мира, подво-
дит итог теоретическим поискам в общинных исследованиях и показывает
несостоятельность редукционистской парадигмы, в рамках которой до сих
пор продолжают мыслить многие отечественные ученые. Хотя тему общи-
ны в Латинской Америке Л.Б. Алаев так же, как и его предшественники, не
затрагивает, мы считаем необходимым упомянуть его труд ввиду фундамен-
тальности рассматриваемых в нем проблем.
В постсоветский период отечественная латиноамериканистика постепенно
освобождается от марксистско-ленинского догматизма, но общинная тема оста-
ется для нее периферийной. Опубликован ряд работ, посвященных отдельным
странам или сюжетам. Исследование Т.В. Гончаровой показывает (подтверж-
дая вывод И.К. Самаркиной), что сельская община в Перу во второй полови-
не ХХ в. не только не “изживалась”, но и в некоторых отношениях укрепляла
свои позиции, в частности, возросло количество самих общин (Гончарова 2000:
405-410). Г.Э. Орнелас и А.Е. Солдатова в статье, посвященной социальным
и этническим процессам в автохтонных общинах-пуэблос Мексики (Орнелас,
Солдатова 2015), также подчеркивают усиление роли общинных институтов
в социально-политической жизни этой страны во второй половине ХХ в., свя-
зывая его с ростом этнического самосознания индейцев. Особый интерес пред-
ставляет взаимодействие этого процесса с процессом урбанизации. Как показа-
но в статье, многим автохтонным сообществам удается успешно адаптироваться
к новой реальности, трансформируясь из сельских (аграрных) общин в общины
городских кварталов, не теряя при этом своей идентичности.
В моих работах последних лет (Костогрызов 2018, 2019а, 2019б и др.)
исследуются институты общинного правосудия в Латинской Америке. По-
казано, что эти институты - отнюдь не “атавизм”, а необходимый элемент
правовой системы стран региона, важный механизм поддержания правопо-
рядка и защиты прав человека. По итогам исследования разработана научная
концепция общинного права и общинного правосудия, сформулированы де-
финиции этих понятий, предложена типология органов общинной юстиции в
Латинской Америке.
Итак, изучение общинных институтов давно стало важным компонентом
латиноамериканских исследований, прежде всего в самих странах Латинской
Америки, а также в США и Западной Европе. В российской науке этот жанр
получил гораздо меньшее развитие. Достигнутые результаты дают основание
констатировать, что община в большинстве стран региона не только не отми-
рает, но продолжает играть ключевую роль в социально-политической системе,
«будучи одним из важнейших механизмов социальной интеграции… выступает
как фактор достижения и сохранения целостности социальной “ткани” обществ
региона, причем не только на местном, но и на общецивилизационном уровне»
(Шемякин 2019).
120
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Благодарности
Исследование выполнено при поддержке Фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel
Stiftung). Проект [AZ 04/KF/20] “Local communities as agents of governance and
security in Andean countries: supporting or contesting the sovereignty of the State?”
Примечания
1 См., напр.: Barié 2008; Daza, Hurtado 2000; Castro-Herrera 2016; Castro-
Herrera et al. 2017; Ardila Amaya, Suárez Acero 2021; и др.
2 См., напр.: Чичерин 1856; Качоровский 1906; Кауфман 1908; Павлов-
Сильванский 1910; и др.
Научная литература
Алаев Л.Б. Сельская община: роман, вставленный в историю. М.: Ленанд, 2016.
Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2003.
Гончарова Т.В. Коренное население Перу во второй половине ХХ века // Исто-
рия Перу с древнейших времен до конца ХХ в. / Отв. ред. С.А. Созина.
М.: Наука, 2000. C. 403-416.
Кауфман А.А. Русская община в процессе ее зарождения и роста. М.: Тип. Т-ва
И.Д. Сытина, 1908.
Качоровский К.А.Р. Русская община: возможно ли, желательно ли ее сохране-
ние и развитие? М.: Новое товарищество, 1906.
Костогрызов П.И. Конституционализация юридического плюрализма в лати-
ноамериканских странах: сравнительный анализ национальных моделей //
Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 73-76.
Костогрызов П.И. Общинное правосудие в странах Латинской Америки. М.:
Юрлитинформ, 2018.
Костогрызов П.И. Общинное право // Антиномии. 2019а. Т. 19. Вып. 2.
Костогрызов П.И. Общинное правосудие // Томский журнал лингвистиче-
ских и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and
6119-2019-3-25-94-103
Мариатеги Х.К. Семь очерков истолкования перуанской действительности. М.:
Иностранная литература, 1963.
Матусовский А.А. Последняя малока: трансформация социокультурной роли
общинного жилища у перуанских мацэс // Этнографическое обозрение.
Орнелас Таварес Г.Э., Солдатова А.Е. Автохтонные пуэбло долины Мехико:
основные подходы к антропологическому изучению // Сибирские историче-
ские исследования. 2015. № 4. С. 47-63.
Павлов-Сильванский Н.П. Сочинения: В 3 т. Т. 3, Феодализм в удельной Руси.
СПб: тип. М.М. Стасюлевича, 1910.
Самаркина И.К. Община в Перу. Очерк социально-экономического развития.
М.: Наука, 1974.
Чичерин Б.Н. Обзор исторического развития сельской общины в России //
Русский вестник. 1856. № 3. С. 373-396; № 4. С. 579-602.
Шемякин Я.Г. Общинная юстиция как проявление цивилизационной идентич-
ности Латинской Америки // Латинская Америка. 2019. № 2. С. 94-106.
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
121
Adrián Ambía A. El Ayllu en el Perú actual: Con un estudio de las normas tradicionales
de la comunidad campesina de Amaru, Calca, Cusco. Lima: PUKARA, 1989.
Ardila Amaya É., Suárez Acero A. (eds.) Arauca: una escuela de justicia comunitaria
para Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2021.
Barié C.G. Derecho Indígena y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos //
Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. 2008. Num. 3. P. 110-118.
Brandt H.-J. (ed.) Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador. Vol. 9, Cambios
en la justicia comunitaria y factores de influencia. Lima: IDL, 2013.
Brandt H.-J., Franco R. (eds.) Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador.
Vol. 1, El tratamiento de conflictos: un estudio de actas en 133 comunidades
indígenas y campesinas en Ecuador y Perú. Lima: IDL, 2006.
Brandt H.-J., Franco R. (eds.) Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador.
Vol. 2, Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria: Estudio
cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú. Lima:
IDL, 2007.
Cámara Barbechano F. Organizacion religiosa y politica en Mesoamerica //
Introduccion al sistema de cargos. Antologia / Comp. L. Korsbaek. Toluca:
Facultad de Antropología-UAEM, 1996. P. 69-98.
Castro-Herrera F.S. Justicia comunitaria en el desplazamiento forzado. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 2016.
Castro-Herrera F.S., Ardila Amaya É., Jaramillo Marín J. (eds.) Huellas y trazos de la
justicia comunitaria en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2017.
Clastres P. La Société contre l’État: Recherches d’anthropologie politique. Paris:
Minuit, 1974.
Crow G. What are Community Studies? L.: Bloomsbury Academic, 2017.
Daza A., Hurtado F. Justicia comunitaria, entre las instituciones y las organizaciones //
Pensamiento Jurídico. 2000. Núm. 12. Pt. 1, Justicia comunitaria. Р. 23-42.
de Sousa Santos B., Exeni Rodríguez J.L. (comps.) Justicia Indígena, plurinacionalidad
e interculturalidad en Bolivia. Quito: Abya Yala, 2012.
de Sousa Santos B., Grijalva A. (comps.) Justicia Indígena, plurinacionalidad e
interculturalidad en Ecuador. Quito: Abya Yala, 2012.
Espinosa N. Entre la justicia guerrillera y la justicia campesina ¿Un nuevo modelo de
justicia comunitaria? La Macarena, Meta, estudio de caso // Revista Colombiana
de Sociología. 2003. Núm. 20. P. 117-145.
Espinosa N. El justo comunitario, las leyes y la justicia en una región con fuerte
presencia del conflicto armado. Etnografía del pluralismo jurídico en la Sierra de
La Macarena // Diálogos de Derecho y Política. 2010. Núm. 3. P. 1-26.
Espinosa N. Las prácticas comunitarias de justicia local en la Sierra de la Macarena.
El pluralismo jurídico de cara a la reconstrucción del país en el post conflicto
colombiano // AGO.USB Medellín-Colombia. 2015. Vol. 15. Núm. 2. P. 495-513.
Espinosa N. La justicia guerrillera en Colombia. Elementos de análisis para los
retos de la transición política en una zona de control insurgente // Estudios
Latinoamericanos, Nueva Época. 2016. Núm. 37 (1). P. 87-112.
Fernández Osco, M. El Ayllu y la Reconstitución del Pensamiento Aymara. PhD diss.
Duke University, Durham, 2009.
Ferreira F., Isbell B.J. (eds.) A Return to the Village: Community Ethnographies and
the Study of Andean Culture in Retrospective. L.: Institute of Latin American
Studies; School of Advanced Study; University of London, 2016.
Franco R., Gonzales M. (eds.) Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador. Vol. 3,
Las mujeres en la justicia comunitaria: víctimas, sujetos y actores. Lima: IDL, 2009.
Fuentes Díaz A., Fini D. (eds.) Defender al pueblo. Autodefensas y Policías
Comunitarias en México. México: Ediciones del Lirio, 2018.
122
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Fumerton M.A. Rondas Campesinas in the Peruvian Civil War: Peasant Self-Defence
Organizations in Ayacucho // Bulletin of Latin American Research. 2001. Vol. 20.
Gasparello G. Conflicto, respuestas comunitarias a la violencia y formación de paz //
Revista de Cultura de Paz. 2018. Vol. 2. P. 191-214.
González de la Fuente I., Salas Quintanal H. Community Projects in the Era of
Globalization: The Case of a Local Rural Society in Mexico // Anthropological
Notebooks. 2012. Vol. 18 (1). P. 41-64.
Korsbaek L. (comp.) Introduccion al sistema de cargos: Antologia. Toluca: Facultad
de Antropología-UAEM, 1996.
Korsbaek L. El capitalismo periférico, el neoliberalismo y las Instituciones de defensa
de la comunidad // Pacarina del Sur. 2011. Núm. 7.
Kowalewski S.A. What is the Community? The Long View from Oaxaca, Mexico //
Social Evolution & History. 2003. Vol. 2. No. 1. P. 4-24.
Lizárraga Aranibar P., Vacaflores Rivero C. La descolonizacion del territorio: luchas
y resistencias campesinas e indigenas en Bolivia // Capitalismo: tierra y poder en
America Latina (1982-2012). Vol. II / Ed. G. Almeyra et al. Mexico: Universidad
Autonoma Metropolitana, 2014. P. 17-64.
Llano Franco J.V. et al. Pos-acuerdo y territiorio en las comunidades indígenas, afro
y campesinas en el Norte del Cauca. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2019.
Lynd R., Lynd H. Middletown: A Study in American Culture. N.Y.: Harcourt, Brace
and Company, 1929.
Lynd R., Lynd H. Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts.
N.Y.: Harcourt, Brace and Company, 1937.
Mandujano Estrada M. La primavera P’urhépecha; resistencia y Buen Gobierno
en Cherán K’eri // Bajo Palabra. Revista de Filosofía II Época. 2014. Num. 9.
P. 103-112.
Ordoñez Cifuentes J.E.R. Restitución de la armonía cósmica. Propuesta jurídica de
los pueblos originarios de Abya Yala // Quid Iuris. 2008. Num. 8. Р. 56-114.
Palomino Flores S. El sistema de oposiciones en la comunidad de Sarhua: La
complementaridad de los opuestos en la cultura andina. Lima: Pueblo Indio, 1984.
Quijano A. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina //
Anuario Mariateguiano. 1997. Vol. IX. Num. 9. P. 113-122.
Redfield R. The Little Community. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Rudqvist A., Anrup R. Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos caucanos y
su guardia indígena // Papeles Polítcos. 2013. Vol. 18. Num. 2. P. 515-548.
Salvador Rios G. Estructura y cambio de la Comunidad Campesina: La Comunidad
de Huascoy. Lima: CEDEP, 1983.
Sandoval Forero E.A. La Guardia Indígena Nasa y el Arte de la Resistencia Pacífica.
Bogotá: Fundacion Hemera, 2008.
Starn O. Nightwatch: The Politics of Protest in the Andes. Durham: Duke University
Press, 1999.
Tax S. Los municipios del Altiplano mesooccidental de Guatemala // Introduccion
al sistema de cargos: Antologia / Comp. L. Korsbaek. Toluca: Facultad de
Antropología-UAEM, 1996. P. 54-68.
Vintimilla Saldaña J., Almeida Mariño M., Saldaña Abad R. Justicia comunitaria
en los Andes: Perú y Ecuador. Vol. 4, Derecho indígena, conflicto y justicia
comunitaria en comunidades kichwas del Ecuador. Lima: IDL, 2007.
Wolf E. The Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central
Java // Southwestern Journal of Anthropology. 1957. Vol. 13. No. 1. P. 1-18.
Wolkmer A. Pluralismo jurídico, movimientos sociales y prácticas alternativas //
El Otro Derecho. 1991. Num. 7. P. 29-46.
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
123
Yrigoyen Fajardo R. Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el
pluralismo legal // Alpanchis. 2002. Año 34. Núm. 59-60. Fascículo I, Justicia
Comunitaria en los Andes. P. 31-81.
R e s e a r c h A r t i c l e
Kostogryzov, P.I. Research on Community Institutions in Contemporary
Latin American Studies [Izuchenie obshchinnykh institutov v sovremennoi
latinoamerikanistike]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 4, pp. 109-127.
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS]
Pavel Kostogryzov | http//orcid.org/0000-0002-9345-3900 | pkostogryzov@yandex.ru |
Institute of Philosophy and Law, Russian Academy of Sciences, Ural Branch (16 Sofia
Kovalevskaya Str., Ekaterinburg, 620990, Russia)
Keywords
Latin America, community, community studies, political anthropology, anthropology
of law
Abstract
Research on community institutions has long been an important area of anthropology.
A great deal of literature is devoted, inter alia, to Latin American communities, both
rural, including traditional indigenous communities, and those emerging in urbanized
and semi-urbanized areas. The article provides a brief overview of the development
of Latin American community studies, from their origins in the 1920s and 1930s to
the present day. I characterize the current state of the study of community institutions
in the region in international anthropology, highlighting several trends within Latin
American community studies. In domestic Latin American studies, the topic of
community institutions occupies a peripheral place. Soviet scholarship had certain
achievements in developing it, but methodologically it was limited by a dogmatic
version of Marxism. Over the past decade, Latin American community research in
Russia has gained some momentum.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
References
Adrián Ambía, A. 1989. El Ayllu en el Perú actual: Con un estudio de las normas
tradicionales de la comunidad campesina de Amaru, Calca, Cusco [The Ayllu in
Peru Today: With a Study of the Traditional Norms of the Rural Community of
Amaru, Calca, Cusco]. Lima: PUKARA.
Alaev, L.B. 2016. Sel’skaia obshchina: roman, vstavlennyi v istoriiu [Rural
Community: A Novel Inserted into History]. Moscow: Lenand.
Ardila Amaya, É., and A. Suárez Acero, eds. 2021. Arauca: una escuela de justicia
comunitaria para Colombia [Arauca: A Community Justice School for Colombia].
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Barié, C.G. 2008. Derecho Indígena y Medios Alternativos de Resolución de
Conflictos [Indigenous Law and Alternative Conflict Resolution Media]. Urvio,
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 3: 110-118.
Brandt, H.-J., and R. Franco, eds. 2006. Justicia comunitaria en los Andes: Perú
124
Этнографическое обозрение № 4, 2022
y Ecuador [Community Justice in the Andes: Peru and Ecuador]. Vol. 1, El
tratamiento de conflictos: un estudio de actas en 133 comunidades indígenas
y campesinas en Ecuador y Perú [The Treatment of Conflicts: A Study of
Proceedings in 133 Indigenous and Peasant Communities in Ecuador and Peru].
Lima: IDL.
Brandt, H.-J., and R. Franco, eds. 2007. Justicia comunitaria en los Andes: Perú y
Ecuador [Community Justice in the Andes: Peru and Ecuador]. Vol. 2, Normas,
valores y procedimientos en la justicia comunitaria: Estudio cualitativo en
comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú [Norms, Values and
Procedures in Community Justice: Qualitative Study in Indigenous and Peasant
Communities of Ecuador and Peru]. Lima: IDL.
Brandt, H.-J., ed. 2013. Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador
[Community Justice in the Andes: Peru and Ecuador]. Vol. 9, Cambios en la
justicia comunitaria y factores de influencia [Changes in Community Justice and
Iinfluencing Factors]. Lima: IDL.
Cámara Barbechano, F. 1996. Organizacion religiosa y politica en Mesoamerica
[Religious and Political Organization in Mesoamerica]. In Introduccion al sistema
de cargos. Antologia [Introduction to the Cargos System: Antologia], edited by
L. Korsbaek, 69-98. Toluca: Facultad de Antropología-UAEM.
Castro-Herrera, F.S. 2016. Justicia comunitaria en el desplazamiento forzado
[Community Justice in Forced Displacement]. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia.
Castro-Herrera, F.S., É. Ardila Amaya, and J. Jaramillo Marín, eds. 2017. Huellas y
trazos de la justicia comunitaria en Colombia [Traces of Community Justice in
Colombia]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Chicherin, B.N. 1856. Obzor istoricheskogo razvitiia sel’skoi obshchiny v Rossii
[Review of the Historical Development of the Rural Community in Russia].
Russkii vestnik 3: 373-396; 4: 579-602.
Clastres, P. 1974. La Société contre l’État: Recherches d’anthropologie politique
[Society Against the State: Research in Political Anthropology]. Paris: Minuit.
Crow, G. 2017. What are Community Studies? London: Bloomsbury Academic.
Daza, A., and F. Hurtado. 2000. Justicia comunitaria, entre las instituciones y las
organizaciones [Community Justice, between Institutions and Organizations].
Pensamiento Jurídico 12 (1), Justicia comunitaria parte: 23-42.
de Sousa Santos, B., and A. Grijalva, eds. 2012. Justicia Indígena, plurinacionalidad
e interculturalidad en Ecuador
[Indigenous Justice, Plurinationality and
Interculturality in Ecuador]. Quito: Abya Yala.
de Sousa Santos, B., and J.L. Exeni Rodríguez, eds. 2012. Justicia Indígena,
plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia
[Indigenous Justice,
Plurinationality and Interculturality in Bolivia]. Quito: Abya Yala.
Espinosa, N. 2003. Entre la justicia guerrillera y la justicia campesina ¿Un nuevo
modelo de justicia comunitaria? La Macarena, Meta, estudio de caso [Between
the Guerrilla Justice and the Peasants’ Justice]. Revista Colombiana de Sociología
20: 117-145.
Espinosa, N. 2010. El justo comunitario, las leyes y la justicia en una región con
fuerte presencia del conflicto armado. Etnografía del pluralismo jurídico en la
Sierra de La Macarena [The Communal Just: Laws and Justice in a Region with
Strong Presence of Armed Conflict]. Diálogos de Derecho y Política 3: 1-26.
Espinosa, N. 2015. Las prácticas comunitarias de justicia local en la Sierra de la
Macarena. El pluralismo jurídico de cara a la reconstrucción del país en el post
conflicto colombiano [Community Practices of Local Justice in Sierra de la
Macarena]. AGO.USB Medellín-Colombia 15 (2): 495-513.
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
125
Espinosa, N. 2016. La justicia guerrillera en Colombia. Elementos de análisis para
los retos de la transición política en una zona de control insurgente [The Guerrilla
Justice in Colombia: Elements of Analysis of the Political Transition Challenges in
an Insurgency Controlled Zone]. Estudios Latinoamericanos, Nueva Época 37 (1):
87-112.
Fernández Osco, M. 2009. El Ayllu y la Reconstitución del Pensamiento Aymara
[Ayllu and the Reconstitution of Aymara Thought]. PhD diss. Duke University.
Ferreira, F., and B.J. Isbell, eds. 2016. A Return to the Village: Community Ethnographies
and the Study of Andean Culture in Retrospective. London: Institute of Latin
American Studies; School of Advanced Study; University of London.
Franco, R., and M. Gonzales, eds. 2009. Justicia comunitaria en los Andes: Perú y
Ecuador [Community Justice in the Andes: Peru and Ecuador]. Vol. 3, Las mujeres
en la justicia comunitaria: víctimas, sujetos y actores [Women in Community
Justice: Victims, Subjects and Actors]. Lima: IDL.
Fuentes Díaz, A., and D. Fini, eds. 2018. Defender al pueblo. Autodefensas y
Policías Comunitarias en México [Defend the People: Self-Defense Forces and
Community Police in Mexico]. México: Ediciones del Lirio.
Fumerton, M.A. 2001. Rondas Campesinas in the Peruvian Civil War: Peasant Self-
Defense Organizations in Ayacucho. Bulletin of Latin American Research 20 (4):
Gasparello, G. 2018. Conflicto, respuestas comunitarias a la violencia y formación de
paz [Conflict, Community Responses to Violence and Peace Formation]. Revista
de Cultura de Paz 2: 191-214.
Geertz, C. 2003. Interpretatsiia kul’tur [The Interpretation of Culture]. Moscow:
ROSSPEN.
Goncharova, T.V. 2000. Korennoe naselenie Peru vo vtoroi polovine XX veka [The
Indigenous Population of Peru in the Second Half of the Twentieth Century].
In Istoriia Peru s drevneishikh vremen do kontsa XX v. [History of Peru from
the Ancient Times till the Late 20th Century], edited by S.A. Sozina, 403-416.
Moscow: Nauka.
González de la Fuente, I., and H. Salas Quintanal. 2012. Community Projects in the Era
of Globalization: The Case of a Local Rural Society in Mexico. Anthropological
Notebooks 18 (1): 41-64.
Kachorovskii, K.A.R. 1906. Russkaia obshchina: vozmozhno li, zhelatel’no li ee
sokhranenie i razvitie? [Russian Community: Is It Possible, is It Desirable to
Preserve and Develop?]. Moscow: Novoe tovarishchestvo.
Kaufman, A.A. 1908. Russkaia obshchina v protsesse ee zarozhdeniia i rosta [Russian
Community in the Process of Its Origin and Growth]. Moscow: Tipograpfiia
tovarishchestva I.D. Sytina.
Korsbaek, L., ed. 1996. Introduccion al sistema de cargos: Antologia [Introduction to
the Cargos System: Antologia]. Toluca: Facultad de Antropología-UAEM.
Korsbaek, L. 2011. El capitalismo periférico, el neoliberalismo y las Instituciones de
defensa de la comunidad [The Peripheral Capitalism, the Neo-Liberalism and the
Community Defense Institutions]. Pacarina del Sur 7.
Kostogryzov, P.I.
2017. Konstitutsionalizatsiia iuridicheskogo pliuralizma v
latinoamerikanskikh stranakh: sravnitel’nyi analiz natsional’nykh modelei
[Constitutionalization of Legal Pluralism in Latin American Countries].
Konstitutsionnoe i munitsipal’noe pravo 11: 73-76.
Kostogryzov, P.I. 2018. Obshchinnoe pravosudie v stranakh Latinskoi Ameriki
[Community Justice in Latin American Countries]. Moscow: Yurlitinform.
Kostogryzov, P.I. 2019. Obshchinnoe pravo [Community Law]. Antinomii 19 (2):
126
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Kostogryzov, P.I. 2019. Obshchinnoe pravosudie [Community Justice]. Tomskii
zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovanii (Tomsk Journal of
6119-2019-3-25-94-103
Kowalewski, S.A. 2003. What is the Community? The Long View from Oaxaca,
Mexico. Social Evolution & History 2 (1): 4-24.
Lizárraga Aranibar, P., and C. Vacaflores Rivero. 2014. La descolonizacion
del territorio: luchas y resistencias campesinas e indigenas en Bolivia [The
Decolonization of the Territory: Peasant and Indigenous Struggles and Resistance
in Bolivia]. In Capitalismo: tierra y poder en America Latina (1982-2012)
[Capitalism: Land and Power in Latin America (1982-2012)], edited by
G. Almeyra, et al., II: 17-64. Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana.
Llano Franco, J.V., et al. 2019. Pos-acuerdo y territiorio en las comunidades
indígenas, afro y campesinas en el Norte del Cauca [Post-Agreement and
Territory in Indigenous, Afro and Peasant Communities in the North of Cauca].
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
Lynd, R., and H. Lynd. 1929. Middletown: A Study in American Culture. New York:
Harcourt, Brace and Company.
Lynd, R., and H. Lynd. 1937. Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts.
New York: Harcourt, Brace and Company.
Mandujano Estrada, M. 2014. La primavera P’urhépecha; resistencia y Buen Gobierno
en Cherán K’eri [The P’urhépecha Spring; Resistance and Good Government in
Cherán K’eri]. Bajo Palabra. Revista de Filosofía II Época 9:103-112.
Mariategui, J.C. 1963. Sem’ ocherkov istolkovaniia peruanskoi deistvitel’nosti
[Seven Essays on the Interpretation of Peruvian Reality]. Moscow: Inostrannaia
literatura.
Matusovskii, A.A. 2019. Posledniaia maloka: transformatsiia sotsiokul’turnoi roli
obshchinnogo zhilishcha u peruanskikh matses [The Last Maloka: Transformation
of the Socio-Cultural Role of the Communal Dwelling in the Peruvian
Maces]. Etnograficheskoe obozrenie
5:
S086954150007384-2
Murdock, G.P. 1949. Social Structure. New York: The MacMillan Company.
Ordoñez Cifuentes, J.E.R. 2008. Restitución de la armonía cósmica. Propuesta jurídica
de los pueblos originarios de Abya Yala [Restitution of Cosmic Harmony: Legal
Proposal of the Original Peoples of Abya Yala]. Quid Iuris 8: 56-114.
Ornelas Tavares, G.E., andA.E. Soldatova. 2015.Avtokhtonnye pueblo dolinyMekhiko:
osnovnye podkhody k antropologicheskomu izucheniiu [The Autochthonous
Pueblos of the Mexico Valley: Basic Approaches to Anthropological Studies].
Sibirskie istoricheskie issledovaniia 4: 47-63.
Palomino Flores, S. 1984. El sistema de oposiciones en la comunidad de Sarhua: La
complementaridad de los opuestos en la cultura andina [The Opposition System
in the Sarhua Community: The Complementarity of Opposites in the Andean
Culture]. Lima: Pueblo Indio.
Pavlov-Silvanskii, N.P. 1910. Sochineniia: V 3 t. [Collected Works, 3 vols.].
Vol. 3, Feodalizm v udel’noi Rusi [Feudalism in Appanage Russia]. St. Petersburg:
tipograpfiia M.M. Stasiulevicha.
Quijano, A. 1997. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina
[Coloniality of Power, Culture and Knowledge in Latin America]. Anuario
Mariateguiano IX (9): 113-122.
Redfield, R. 1960. The Little Community. Chicago: University of Chicago Press.
Rudqvist, A., and R. Anrup. 2013. Resistencia comunitaria en Colombia. Los
cabildos caucanos y su guardia indígena [Community Resistance in Colombia:
Костогрызов П.И. Изучение общинных институтов...
127
The Cabildos of Cauca and Their Indigenous Guard]. Papeles Polítcos 18 (2):
515-548.
Salvador Rios, G. 1983. Estructura y cambio de la Comunidad Campesina: La
Comunidad de Huascoy [Structure and Change of the Peasant Community: The
Community of Huascoy]. Lima: CEDEP.
Samarkina, I.K. 1974. Obshchina v Peru. Ocherk sotsial’no-ekonomicheskogo
razvitiia
[Community in Peru: Essay on Socio-Economic Development].
Moscow: Nauka.
Sandoval Forero, E.A. 2008. La Guardia Indígena Nasa y el Arte de la Resistencia
Pacífica [The Nasa Indigenous Guard and the Art of Peaceful Resistance].
Bogotá: Fundacion Hemera.
Shemiakin, Y.G. 2019. Obshchinnaia iustitsiia kak proiavlenie tsivilizatsionnoi
identichnosti Latinskoi Ameriki [Community Justice as a Manifestation of the
Civilizational Identity of Latin America]. Latinskaia Amerika 2: 94-106. https://
doi.org/10.31857/S0044748X0003715-5
Starn, O. 1999. Nightwatch: The Politics of Protest in the Andes. Durham: Duke
University Press.
Tax, S. 1996. Los municipios del Altiplano mesooccidental de Guatemala [The
Municipalities of the Midwestern Highlands of Guatemala]. In Introduccion al
sistema de cargos: Antologia [Introduction to the Cargos System: Antologia],
edited by L. Korsbaek, 54-68. Toluca: Facultad de Antropología-UAEM.
Vintimilla Saldaña, J., M. Almeida Mariño, and R. Saldaña Abad. 2007. Justicia
comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador [Community Justice in the Andes:
Peru and Ecuador]. Vol. 4, Derecho indígena, conflicto y justicia comunitaria en
comunidades kichwas del Ecuador [Indigenous Law, Conflict and Community
Justice in Kichwa Communities of Ecuador]. Lima: IDL.
Wolf, E.R. 1957. The Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and
Central Java. Southwestern Journal of Anthropology 13 (1): 1-18.
Wolkmer, A. 1991. Pluralismo jurídico, movimientos sociales y prácticas alternativas
[Legal Pluralism, Social Movements and Alternative Practices]. El Otro Derecho 7:
29-46.
Yrigoyen Fajardo, R. 2002. Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas
y el pluralismo legal [Towards a Full Recognition of the Peasant Rondas and
Legal Pluralism]. Alpanchis 34 (59-60): 31-81. Justicia Comunitaria en los
Andes 1.