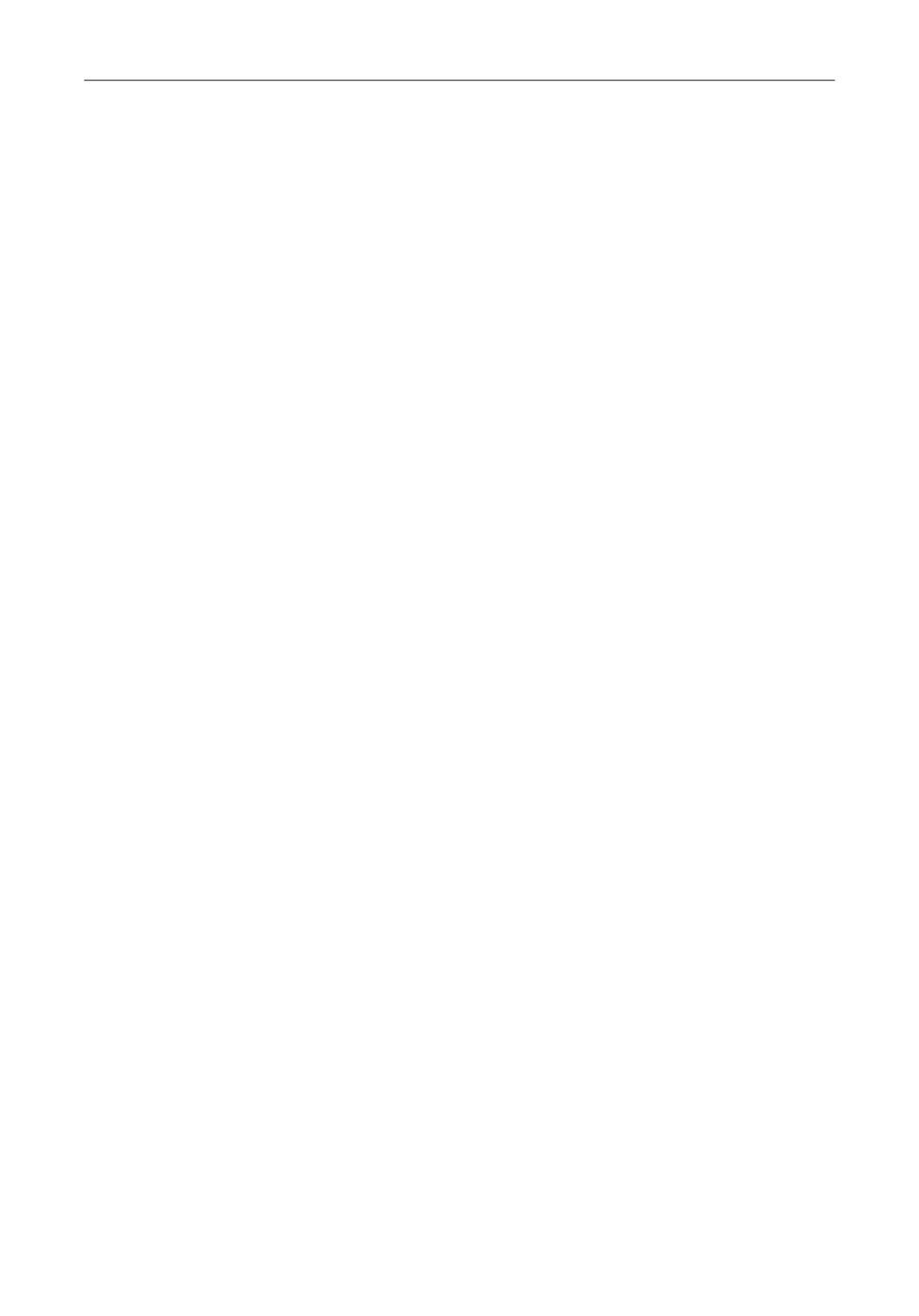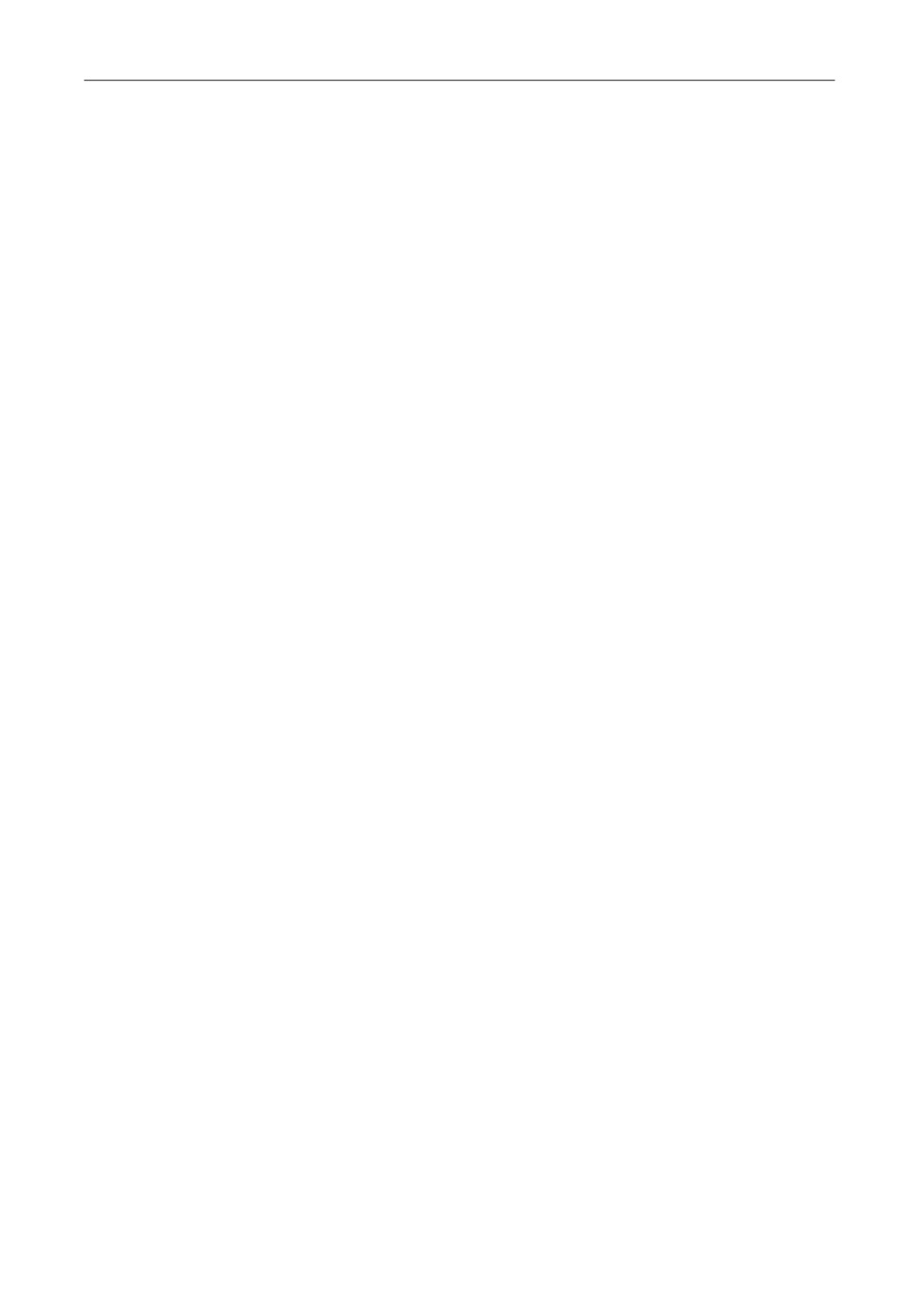НЕМЕЦКАЯ ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЯПОНИИ:
ЭРВИН ФОН БЕЛЬЦ КАК АНТРОПОЛОГ И ЭТНОЛОГ
Н.С. Любимова
младший научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а,
Москва, 119991, Россия)
Ключевые слова
Эрвин Бельц, история науки, немецкая этнология, японистика, этногенез японцев
Аннотация
Статья посвящена наследию Эрвина фон Бельца в области этнологии Японии и его
взгляду на саму эту науку. Историко-биографический экскурс демонстрирует, какие
внешние факторы влияли на исследования ученого и их судьбу в научном мире и
каким образом осуществлялось это влияние. Анализ наследия Бельца позволяет вы-
делить его важнейшие наблюдения и оценить сделанные им выводы, а также опреде-
лить его взгляды на теорию науки. Однако, несмотря на то что исследования Бельца
(их тематика, применяемая им методология и теоретические подходы, которые он
использовал) являлись частью современного ему научного мира, его научная работа
проходила в относительной изоляции, поскольку географическая удаленность Япо-
нии от Европы делала невозможным полноценное участие в жизни научного евро-
пейского сообщества. Последствия этой изоляции видны в судьбе трудов Бельца: на
его авторитет ссылались те ученые, которым импонировала теория европеоидности
айнов, в то время как многие другие его идеи и наблюдения остались практически
незамеченными и в результате оказались забыты.
Информация о финансовой поддержке
Грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации [№ соглашения
о предоставлении гранта: 075-15-2022-328]
рвин фон Бельц (1849-1913) - один из самых знаменитых немцев, рабо-
тавших в Японии в конце XIX в. Там он известен в первую очередь как
Э
основоположник современной медицины, а в Германии - как собиратель
этнографических и художественных коллекций, антрополог и этнолог-японист.
С одной стороны, научное творчество Бельца в области изучения Японии пред-
ставляет собой характерное для немецкой этнологии XIX в. смешение интереса
к физической антропологии (расоведению) с вниманием к социальным и куль-
Статья поступила 04.09.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 20.12.2021
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии: Эрвин фон
Бельц как антрополог и этнолог // Этнографическое обозрение. 2022. № 4. С. 128-143.
Liubimova, N.S. 2022. Nemetskaia etnologicheskaia traditsiia v izuchenii Yaponii: Ervin fon
Bel’ts kak antropolog i etnolog [German Ethnological Tradition in Studies of Japan: Erwin
von Baelz as Anthropologist and Ethnologist]. Etnograficheskoe obozrenie
4:
128-143.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
129
турным вопросам. С другой стороны, объект изучения - народ Японии - был
нетипичен для этнологов, а большинство европейских исследователей Японии
опирались не на этнологические традиции, а на традиции ориенталистики, ко-
торая представляла собой филолого-историческую дисциплину. Кроме того, на
творчество Бельца и на судьбу его трудов не могло не повлиять то обстоятель-
ство, что его деятельность проходила в удалении от основных европейских на-
учных центров. Таким образом, с точки зрения историка науки, наследие Бельца
является интересным примером развития идей и подходов немецкой этнологии
второй половины XIX в. в нестандартном для исследователей, принадлежав-
ших к этой традиции, контексте.
Учитывая сложную судьбу этнологического наследия Бельца, представля-
ется необходимым обратиться к подходу к историографической работе, выра-
ботанному Джорджем Стокингом-мл., без ссылок на которого сегодня сложно
обойтись историку антропологии. Этот подход требует обязательного примене-
ния принципа историзма, т.е. внимания к историческому и академическому кон-
тексту, в котором работал ученый прошлого, и обращения к тем вопросам, на
которые искал и давал ответы сам этот ученый, а не тем, которые волнуют нас
сегодня (Stocking 1987: 285); в целом смысл этого подхода заключается в том,
чтобы постараться понять прошлое ради самого прошлого (Stocking 1965: 211).
Таким образом, историко-биографический экскурс демонстрирует, какие внеш-
ние факторы влияли на исследования Бельца и как происходило это влияние,
а анализ его антропологических и этнографических работ дает возможность
выделить важнейшие наблюдения и выводы, а также осветить его взгляды на
теорию науки, которые, с одной стороны, самобытны, но с другой - плотно
вписаны в современный им академический контекст.
В свою очередь, применение “презентистской” (определение Стокинга
[Stocking 1965, 1987]) логики помогает проследить, как проходила рецепция
идей Бельца в Европе. Его научное наследие в области этнологии было недоо-
ценено современниками, а в последующие годы начало предаваться забвению.
Кроме того, его труды не всегда удостаивались даже упоминания в работах япо-
новедов, а физические антропологи зачастую ограничивались ссылкой на его
теорию о европеоидности айнов, хотя ряд его наблюдений нашел подтвержде-
ния в позднейших исследованиях. Тем не менее творчество Бельца и сегодня
может представлять интерес для этнолога и япониста.
Жизненный путь и условия работы Бельца1. Бельц рано решил связать
свою жизнь с медициной и наукой. Получив медицинское образование в Лейп-
цигском университете и защитив в 1872 г. диссертацию, Бельц остался в уни-
верситете и скоро стал первым ассистентом и предполагаемым преемником К.
Вундерлиха, терапевта и психиатра, продвигавшего новое в то время направле-
ние “внутренней медицины” (терапии). В 1875 г. Бельц познакомился с одним
из пациентов университетской клиники, Сагара Гэнтэй, который оказался не
просто первым японским студентом в Лейпциге: он был братом японского го-
сударственного деятеля Сагара Тиан, благодаря которому реформа 1869 г., офи-
циально вводившая в Японии западную медицину, была проведена по образцу
немецкой школы медицины. Видимо, именно беседы с молодым японцем поро-
дили у Бельца интерес к далекой и экзотической стране, а его связи поспособ-
ствовали тому, что в том же году Бельц получил приглашение от японского по-
сла в Берлине Аоки Сюдзо занять должность в Токийской медицинской школе
(Germann 2014: 129-131), с которой в 1876 г. Бельц подписал контракт сроком
на два года на преподавание психологии и внутренней медицины. Медицин-
ский факультет с одобрением отнесся к планам Бельца и пошел ему навстречу:
процесс его хабилитации был ускорен, и уже в марте 1876 г. он защитился, по-
130
Этнографическое обозрение № 4, 2022
лучил степень приват-доцента и двухгодичный отпуск для работы в клинике в
Токио (Ibid.: 151).
Медицинская школа Токио (позже преобразованная в Медицинский факуль-
тет Университета Токио), куда отправился Бельц, была открыта в 1871 г., когда
в Японию прибыли первые приглашенные из Германии врачи: хирург и воен-
ный медик Л. Мюллер и выбранный им в качестве ассистента Т.Э. Хоффманн,
служивший ранее на флоте, - и изначально была полностью отдана в их распо-
ряжение. В 1874 г. их сменили военный врач Э. Шульце и терапевт и гинеколог
А. Верних. Так, начиная с 70-х годов XIX в. в Японию стали регулярно приез-
жать медики из Германии, которые зачастую начинали интересоваться антро-
пологическим составом населения, этнической историей и\или этнографией
Японии. Многим из них мы обязаны источниками по физической антрополо-
гии и этнографии Японии (в числе известных авторов, например, Ф. Дёниц и
Г. Шойбе). Бельц, однако, выделяется из этого ряда ученых тем, что проработал
в Японии до 1905 г., до самого выхода на пенсию, и все это время вел исследо-
вательскую деятельность, в том числе и в области этнологии.
Вряд ли в 1876 г. Бельц предполагал, что его пребывание в Японии настолько
затянется, ведь в Лейпцигском университете он взял отпуск, а, значит, явно пла-
нировал вернуться. Однако уже в 1877 г. он не только согласился на досрочное
продление контракта, но и попросил четырехлетний контракт, обосновав это тем,
что в условиях краткосрочного договора не остается времени должным образом
проводить научную работу (при этом отпуск в Лейпциге ему тоже продлили).
Надо отметить, что не только научные интересы удержали Бельца в Японии
на десятилетия: с 1984 г. он остался одним из двух немцев-заведующих кафе-
драми (вторым был хирург Ю.К. Скриба, большинство же его соотечественни-
ков уехало, поскольку на все руководящие посты стали назначать только япон-
цев), а с 1886 г. стал личным врачом кронпринца, будущего императора Ёсихито
(с 1890 г. - императорским лейб-медиком), продолжая работать в университете.
Эта должность обеспечивала ему относительно прочное положение, не зави-
севшее от изменений внешнеполитических условий, жертвами которых порой
становились работавшие в Японии иностранцы. Подобной карьеры в Германии
Бельц сделать уже не смог бы, в чем он убедился, посетив родину во время свое-
го академического отпуска в 1884-1885 гг.: его вернувшиеся из Японии коллеги
с трудом вливались в университетскую жизнь страны. Одновременно у Бельца
появилось желание стать ученым, а не практиком - антропологом и этнологом,
пусть и без денег и положения. Это означало, что ему необходимо было прора-
ботать в Японии до достижения финансовой независимости, ведь труд европей-
ских специалистов там щедро оплачивался. Таким образом, карьерный успех
и сопутствующие высокое социальное положение и финансовое благополучие
явно сыграли свою роль. Однако он никогда не допускал мысли остаться в Япо-
нии навсегда, и в свои визиты на родину (в 1892-1893 и 1900-1901 гг.) частич-
но перевозил собираемую им коллекцию японских и айнских этнографических
предметов и произведений искусства.
В 1902-1903 гг. Бельц совершил путешествие по Восточной Азии в научных
целях: задачей экспедиции было проведение антропометрического исследова-
ния населения Кореи.
Окончательный отъезд из Японии в Германию состоялся летом 1905 г. До
самой смерти в 1913 г. Бельц стремился как можно больше времени и сил по-
свящать науке: готовил доклады для различных научных обществ и конферен-
ций, работал с этнографическими музеями, передавая им для экспозиции части
своей японской коллекции, путешествовал.
С одной стороны, условия для этнологических изысканий, которые были у
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
131
Бельца, можно назвать идеальными: он много лет прожил и проработал с япон-
цами, дважды был женат на японках (от второго брака у него было двое детей).
Таким образом, ученый имел возможность не только проводить физические
исследования в университетской клинике, но и наблюдать за разными сторо-
нами японской жизни, тем более что под конец пребывания в Японии круг его
общения практически полностью состоял из японцев. Но, с другой стороны,
работа в удалении от Европы не позволяла ему полноценно участвовать в науч-
ном дискурсе. Бельц стремился держаться на острие науки: в 1876 г. он вступил
в Немецкое восточноазиатское естественнонаучное и этнографическое обще-
ство (далее - Восточноазиатское общество), образованное за три года до этого
немецкими учеными, дипломатами и торговцами в Токио, и стал его библио-
текарем, получив таким образом доступ к новейшим трудам других научных
обществ и к процессу публикации работ разных авторов; по пути в Германию
в 1884 г. он проехал через США, где ознакомился с новейшими веяниями в ме-
дицине, посещая госпитали, университеты и медучилища. Приезжая в Герма-
нию, он старался налаживать контакты в университетах и принимал участие в
конгрессах и конференциях. Однако дистанция все равно сказывалась - как на
работе самого Бельца, так и на восприятии его наследия в европейской науке.
Вклад Бельца в антропологическое и этнологическое исследование Японии.
Вторая половина XIX в. в европейской науке - время бурного развития физиче-
ской антропологии, в рамках которой учеными предпринимались многочислен-
ные попытки описать и классифицировать разнообразие человеческого рода мето-
дами естественных наук. Первые подходы к этой проблеме в отношении японцев
уже предпринимались, однако они не отличались ни последовательностью, ни бо-
гатством исходных данных. Таким образом, первая антропологическая проблема,
которая естественным образом привлекла внимание Бельца, была связана с описа-
нием и объяснением антропологического состава населения Японии.
В 1883 и 1885 гг. в “Известиях Восточноазиатского общества” было опу-
бликовано обширное исследование в двух частях под названием “Физические
характеристики японцев” (Baelz 1883, 1885). Оно открывается обзором литера-
туры, в которой встречались описания физических характеристик японцев на-
чиная с литературы путешествий (например, книги британской писательницы
Изабеллы Бёрд) и заканчивая строго научными публикациями, в том числе и
написанными его коллегами, врачами А. Вернихом и О.Г. Монике. Подчеркивая
до абсурда противоречивые суждения о физическом строении японцев, Бельц
констатирует, что, в сущности, европейской науке о нем ничего не известно,
и представляет результаты собственного антропометрического исследования,
которое было основано на измерениях физических показателей более чем 2500
человек. Около 1200 измерений было проведено самим Бельцем, остальные же
данные ему предоставили коллеги-врачи - их результаты в числовом выраже-
нии представлены во второй части работы (Baelz 1885).
Несомненно, Бельц был знаком с антропометрическими схемами веду-
щих ученых в этой области, таких как П. Брока и Р. Вирхов, и, основываясь
на них, создал собственную схему измерений, насчитывающую 79 различных
показателей. Надо отметить, что, несмотря на детальность и основательность
исследования Бельца, в дальнейшем его данные не привлекались другими уче-
ными. Японский антрополог Судзуки Хисаси объясняет это тем, что в 1882 г.
во Франкфурте-на-Майне состоялся XIII Всеобщий конгресс Немецкого антро-
пологического общества, на котором были унифицированы методы антропом-
етрических исследований (опубликованы эти стандарты были в 1883 г.). Так,
Р. Вирхов, Ю. Кольман и Й. Ранке представили новую краниометрическую схе-
му, и, хотя многие ее позиции совпадали со схемой П. Брока, номенклатура
132
Этнографическое обозрение № 4, 2022
подверглась значительным изменениям (Singh, Bhasin 1968: 2). Таким образом,
материал Бельца, собранный по другой методике, сильно отличавшейся от при-
нятой в 1882 г., было невозможно напрямую сопоставлять с результатами более
поздних исследований (Судзуки 1974: 5-6).
В первой части этого исследования (Baelz 1883) Бельц впервые изложил
свое видение классификации населения Японии по антропологическим типам.
Он говорит о трех “этнографических элементах” - айнском, монгольском2 и
малайском, - отмечая, что если айнов исследователи единогласно выделяют в
отдельную группу, то по поводу наличия и соотношения монгольского и ма-
лайского элемента в населении Японии ведутся споры: от признания японцев
почти чистыми монголами (Ф. Дёниц) до утверждений, что японцы - результат
метисации малайцев и айнов, без монгольской примеси вообще (А. Верних).
Бельц был убежден в наличии обоих элементов. Он подчеркивает бросающи-
еся в глаза различия между двумя антропологическими типами, которые легко
выделить: долихоцефальным (длинное лицо, тонкий, выступающий нос, малень-
кий рот и проч.) и брахицефальным (широкое лицо, выдающиеся скулы, плоский
нос и большой рот). При этом он отмечает, что первый преобладает среди япон-
ской знати, а второй чаще встречается “в народе”. Первый тип, как пишет Бельц,
не соответствует европейским представлениям о монгольском, однако должен
рассматриваться как таковой, поскольку совпадает с обликом, присущим пред-
ставителям высших классов в Китае; кроме того, он никогда не встречается у
малайцев. Второй же тип, распространенный в основном среди простолюдинов,
но также встречающийся и “в очень знатных семьях”, напоминает малайский; по
крайней мере, он явно имеет отдельное происхождение (Ibid.: 337-338).
Несмотря на то, что второй тип преобладает количественно, Бельц не отказы-
вается от идеи монголоидности японцев, подчеркивая, что не видит оснований
для строгого противопоставления монгольского и малайского типов: население
Китая, пишет он, также весьма неоднородно, а в Юго-Восточной Азии невозмож-
но провести “этнографическую границу” между монгольским и малайским насе-
лением (Ibid.: 339). Выделяя эту мысль, он пишет о “монголоидном племени, схо-
жем с высшими классами Китая и Кореи”, и “монголоидном племени, отчетливо
похожем на малайцев” (Ibid.: 346). Подобную классификацию Бельц предлагает,
несколько изменив терминологию, и в позднейших публикациях.
На рубеже веков его академические интересы все больше смещались в сфе-
ру этнологии; он расширял географию постановки вопросов на всю Восточную
Азию и одновременно погружался в изучение древнейшей и древней истории
Японии (Germann 2014: 309). В докладе “Жители Восточной Азии”, представ-
ленном в декабре 1900 г. в Вюттемберге и вышедшем позднее отдельной публика-
цией (Baelz 1901b), Бельц приводит свои соображения по поводу общей расовой
классификации. Он работает со следующими понятиями: кавказская (или сре-
диземноморская, или белая) раса, монгольская (или центрально- и восточноази-
атская) раса и черная раса (Ibid.: 9). Здесь, как и в статье “О человеческих расах
Восточной Азии, с особым вниманием к Японии” (Baelz 1901a), он уже с большей
уверенностью, чем раньше, и со ссылкой на авторитет А.Р. Уоллеса, британско-
го натуралиста и антрополога, исследователя Малайского архипелага, утвержда-
ет, что невозможно обнаружить принципиальные различия между малайцами и
монголами: малайцы и жители Индокитая входят в монгольскую расу в широком
смысле. Таким образом, в населении всех трех стран Восточной Азии (Китая,
Кореи и Японии) обнаруживаются одни и те же элементы, но в разных пропор-
циях: собственно монголы (т.е. монголоиды) составляют большинство населения
в центральном и южном Китае; чем южнее, тем сильнее проявляются малайские
черты (малайско-монгольский тип); на севере Китая и в центральной и северной
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
133
Корее распространен маньчжуро-корейский тип, обладающий более близкими к
европеоидным чертами (Baelz 1901a: 172; 1901b: 20). В статье 1907 г. Бельц, ссы-
лаясь на собственную работу 1885 г., снова кратко воспроизводит свою класси-
фикацию: “Я… выделил в Японии три существенных элемента: во-первых, севе-
ро-монгольский или собственно монгольский, во-вторых, южномонгольский или
малайский тип, в-третьих,… айнский тип” (Baelz 1907: 281).
Складывается впечатление, что (пусть сам Бельц никак это не отмечает)
его представления о том, что же является “собственно монгольским” типом,
несколько менялись в течение времени. Несмотря на то, что он нигде в сво-
их работах 1901 г. не дает четкого определения термину “собственно монго-
лы”, создается ощущение, что он не склонен проводить различие между этим
и монголо-малайским типом. Так, в “Человеческих расах Восточной Азии…”
в параграфе, озаглавленном “Монголо-малайцы” и посвященном описанию
признаков этого антропологического типа, употребляется исключительно сло-
во “монголы”. Более того, в параграфе о маньчжуро-корейском типе, сочетаю-
щем “черты тюркских народов, являющиеся более или менее кавказскими (ев-
ропеоидными. - Н.Л.), с отдельными особенностями монголов”, есть пассаж
о монгольском пятне3, которое обнаруживается у всех новорожденных этого
типа, “что доказывает, что они действительно каким-то образом генетически
родственны монголам” (Baelz 1901: 183-184). Таким образом, в 1901 г. Бельцу
казалось, что утверждение о принадлежности этого типа к монголоидной расе
может потребовать дополнительных доказательств. Сложно предположить, что,
кроме маньчжуро-корейского, мог иметь в виду Бельц под “северомонгольским
типом” в “Древней и древнейшей истории Японии” в 1907 г., однако тут он уже
становится “собственно монгольским”, в противопоставление “южномонголь-
скому” или “малайскому”. Вероятно, в 1901 г. ученый исходил из того, что к
монголо-малайскому типу относилось подавляющее большинство населения и
в Японии, и в Китае, однако позже решил вернуться к своей прежней точке зре-
ния, которую высказал еще в 1883 г., о том, что фенотип, присущий китайской
(и японской) аристократии, должен считаться монгольским. Возможно, к этому
его подтолкнула также и поездка в Корею 1903 г., в ходе которой Бельц прово-
дил антропометрические исследования, поскольку на полуострове преобладал
в основном “северомонгольский тип”.
В работах 1907 и 1911 гг. Бельц полнее раскрывает свое видение вопроса
о первом населении Японских островов. Хотя в “Праистории Японии” он при-
знается, что готов с меньшей уверенностью, чем Коганэи Ёсикиё и Д. Батчелор,
утверждать, что найденные археологами неолитические орудия (эпоха Дзёмон)
были изготовлены айнами, аргументы Цубои Сёгоро в пользу теории о том, что
первыми насельниками Японии были родственные эскимосам люди, тоже не ка-
зались ему безупречными (Baelz 1907: 286-287). И в следующей работе Бельц
пишет: “Изначально вся страна была в руках айнов” (Baelz 1911: 190). Он отме-
чает сходство некоторых традиций айнов и рюкюсцев (например, женские тату-
ировки), а также сообщает об обнаружении на юге Японии и Рюкю антрополо-
гических характеристик, свойственных айнам: развитость волосяного покрова и
“кавказоидные черты”. Мнение о физическом типе рюкюсцев основано на ан-
тропологическом исследовании рекрутов с южных островов в 1899 г., которое он
провел с помощью своих бывших учеников, к тому времени работавших военны-
ми врачами. Таким образом, он предполагает, что изначальное айнское население
было потеснено монголоидными пришельцами с материка, причем в основном
айны отходили на север, но на юге остались их потомки, которые смешивались
с завоевателями. К айнскому же населению он относил и племена кумасо и ха-
ято - народы, населявшие в древности центр и юг о. Кюсю и ассимилирован-
134
Этнографическое обозрение № 4, 2022
ные впоследствии японцами. Физическое сходство айнов с австралийцами Бельц
объяснял тем, что “очевидно, айны и австралийцы, так же как и большая часть
кавказской расы, произошли от некой неандерталоидной формы” (Ibid.: 189-190).
Представления о расовом составе населения Японии неразрывно связаны с
теориями о путях заселения островов. Главные положения собственной теории
Бельц разработал уже в 1883 г. Одним из главных его тезисов было утверждение,
что единственным логичным маршрутом миграции был путь через Корейский по-
луостров - в противовес идеям А. Верниха о возможном переселении малайцев с
юга, вдоль гряды островов. Эта теория казалась Бельцу наиболее реалистичной
не только в силу соображений, связанных с географическими факторами (близ-
кое расстояние, аналогичный климат), но и потому, что она соответствовала его
представлениям о схожести расового состава во всех странах Восточной Азии.
Отмечая фенотипическое сходство населения Кореи и островов Рюкю, он делал
вывод, что все островитяне прибыли с материка через Корею, исключив таким
образом вариант, в котором Рюкюсские острова могли служить мостом, по кото-
рому малайское население попало в Японию. Таким образом, рассматривая айнов
как коренных жителей, Бельц пишет о двух волнах миграции с материка: к первой
относились обладатели “благородного” облика, присущего китайской знати, а ко
второй - “воинственное, похожее на малайцев племя” (Baelz 1883: 340-341).
Кроме того, пытаясь объяснить интригующие европейцев “семитские чер-
ты”, проявляющиеся иногда в облике японцев, Бельц высказывал свои предпо-
ложения об их прародине. Исходя из утверждения о принадлежности японского
языка к урало-алтайской семье, он писал, что урало-алтайские и семитские пле-
мена могли когда-то проживать в непосредственной близости друг от друга и
от аккадского “культурного центра” в Месопотамии; это объясняло бы наличие
схожих фенотипических черт (Ibid.: 345).
Примерно тех же воззрений Бельц продолжал придерживаться и далее, лишь
отчасти расширив и конкретизировав их. Если изначально ученый очень осто-
рожно подходил к вопросу о расовой принадлежности айнов, не решаясь утвер-
ждать, “что айны определенно каким-то образом родственны европейцам”, и
выражая уверенность лишь в том, что они не являются “монголами” (Ibid.: 335-
336), то со временем он стал одним из главных апологетов теории европеоидно-
сти айнов. Исходя из этого, в 1901 г. Бельц выразил мнение о том, что когда-то
весь Северо-Восток Азии был заселен расой, родственной европейской; позже
монгольские и тюркские народы, наступавшие на север из Тибета и окрестных
областей и на юг из региона р. Сунгари, оттеснили это население, расколов его
массив на две части. Восточная часть была оттеснена к морю и на Японские
острова, а западная ушла в сторону Европы во время Великого переселения
народов - к ней Бельц относил гуннов. Таким образом, первая волна заселения
островов представляла собой миграцию остатков этой “родственной кавказ-
ской” расы на Восток под давлением монголоидных народов; точный их путь
(морем на Сахалин, а затем на юг, или через Корею - сразу в Японию) при этом
определить не представлялось возможным. Второй волной в Японию прибыли
люди маньчжуро-корейского типа. Чтобы ответить на вопрос, как они оказались
на юго-западе Хонсю, где преобладал этот тип, Бельц обратился к изучению
морских течений и обнаружил, что существует теплое течение (Восточно-Ко-
рейское в современной номенклатуре), идущее вдоль Корейского полуострова,
а затем разворачивающееся и выходящее как раз на юго-западную оконечность
Хонсю. В отношении появления в Японии третьего элемента, “малайо-монго-
лов”, Бельц изменил свою точку зрения: они прибыли в Японию не с материка,
как он полагал ранее, а с помощью теплого течения Куросио, зарождающегося
неподалеку от Филиппинских островов и идущего на север вдоль о. Формоза,
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
135
островов Рюкю и Японских. В качестве подтверждения этой теории Бельц от-
мечает, что наиболее сильная ветвь этого течения омывает восточное побережье
Кюсю4, в том числе провинцию Хю:га - область, где, в соответствии с “Кодзи-
ки”, сошел на землю первый японский император (Baelz 1901a: 173-174). Прав-
да, в 1907 г. он упоминает обе теории (и о миграции через Корею, и о морском
пути через острова) как альтернативные (Baelz 1907: 282-283).
Несмотря на то, что акцент в рассмотренных публикациях сделан на расовых
характеристиках и расовой истории японцев, примечательно, что Бельц регулярно
прибегает и к данным этнографии (зачастую самостоятельно собранным), лингви-
стики и истории, устанавливая связи между своими антропологическими наблюде-
ниями и культурными явлениями и их историей. Так, во второй части исследования
о “Физических характеристиках японцев” (Baelz 1885) Бельц не только анализиру-
ет и графически представляет все собранные антропометрические результаты, но
и сопровождает свои описания этнографическими данными. Рассуждения о кож-
ном покрове дополняются развернутым сообщением о практике татуирования (кто
делает татуировки, куда они наносятся, какие узоры и цвета встречаются, какую
технику используют татуировщики) и истории этого явления; Бельц приходит к
выводу, что японцы, в отличие от других народов, имеющих подобную практику,
относятся к татуировкам как к одежде или украшению. Например, люди, занима-
ющиеся тяжелым физическим трудом в городах (например, рабочие, носильщики
и т.д.), наносят их на свое тело вместо одежды, используя при этом в татуировках
те же цвета и узоры, что и в костюме. При этом ученый отмечает, что подобное
восприятие присуще только рабочему слою, никто из знакомых ему “образованных
японцев” его не разделяет - люди из высших слоев общества скорее удивляются по-
добному взгляду на татуирование, но сами не предоставляют этому обычаю удов-
летворительного объяснения. Самой распространенной трактовкой была теория о
том, что татуировки были привнесены в Японию из Китая, где они якобы исполь-
зовались в качестве наказания (Baelz 1885: 41-45). Также раздел о коже содержит
параграф об эстетических предпочтениях японцев (красивой считается светлая
кожа, и в этом они завидуют европейцам, а вот голубые глаза и светлые волосы
им не нравятся) и практиках ухода за кожей (регулярные купания, особенности на-
циональной одежды, не прилегающей к телу) (Ibid.: 46-48). Описание волосяного
покрова также содержит этнографический очерк о прическах взрослых и детей,
процессе создания женской прически и рассуждения о ее возможном влиянии на
здоровье (Ibid.: 51-54). Говоря о строении тела в целом, Бельц отмечает, что у япон-
ской знати в среднем слабое телосложение, и связывает это с долгим мирным пери-
одом Эдо, когда воинское сословие не могло выполнять свои прямые функции; при
этом он отмечает, что “основную массу народа… можно назвать крепкими” (Ibid.:
56). В этом разделе также есть параграф об эстетическом восприятии тела, походки
и манеры себя держать с рассуждениями о его относительности и изменчивости.
Таким образом, статья 1885 г., на первый взгляд посвященная антропометрии и
расоведению, содержит большое количество этнографических данных и этнологи-
ческих рассуждений. Стоит отметить, что, когда Бельц обнаруживал связь между
биологическим и культурным, он имел в виду не влияние биологического на куль-
туру, а, напротив, отмечал некие физиологические явления, которые могли быть
следствием влияния среды, в том числе и культурных традиций.
Нельзя не отметить две работы Бельца, посвященные “духу” японцев, кото-
рые можно назвать чисто этнологическими. В 1903 г. вышла статья “О психоло-
гии японцев” (Baelz 1903), которая, судя по полемическому тону, была порождена
возмущением Бельца публикацией голландского антрополога Г. тен Кате, в кото-
рой тот нелестно высказался о духовных качествах японского народа. Ключевым
понятием этой статьи является “народная душа” (Volksseele), которое Бельц заим-
136
Этнографическое обозрение № 4, 2022
ствовал, вероятно, у Адольфа Бастиана (Baelz 1901a: 167-168) и которое говорит
о влиянии немецкой философско-антропологической традиции, восходящей к
И.Г. Гердеру и другим немецким мыслителям эпохи Просвещения. Пылкие рас-
суждения Бельца о присущих и не присущих японскому народу чертах характера
также оказываются вполне в духе времени. Но лейтмотивом статьи становится
живописание культурного слома, который испытывала Япония в пореформенный
период, и поколенческому ценностному и мировоззренческому разрыву, к кото-
рому привел этот слом. Тут проявляется несколько противоречивое понимание
“народной души”. С одной стороны, “народная душа” представляет собой некую
устоявшуюся, целостную сущность, которая имеет характерные черты, отражаю-
щиеся в представителях народа:
…нельзя рассматривать современного японца как истинного представителя японской
фольксзееле (курсив мой. - Н.Л.);
Тот, кто хочет изучить основу японской психологии, должен сосредоточиться на людях
старших поколений или отдаленной глубинки… а также, как и любой исследователь на-
родной души, изучать язык, историю, развитие социальных и политических взглядов, а
в первую очередь - верования и суеверия, мифы, легенды и народные сказания и посло-
вицы. Поскольку именно в этой области народная душа обычно отражается четче, чем
где-либо (Baelz 1903: 314-315).
При этом Бельц отмечает, что собирания фольклора недостаточно для суж-
дений о “народной душе” - необходимо выяснить, как традиционные сказания
влияют на живущих ныне людей, что представляет собой трудность, тем более
что японцы не любят раскрываться перед чужаками. Примечательно, что даль-
ше Бельц дает весьма подробные советы по полевой этнографической работе в
Японии, которые сами представляют собой этнографические зарисовки.
С другой стороны, Бельц пишет о пластичности “народной души” и ее зави-
симости от внешних влияний:
Японская народная душа представляла собой раньше твердую, замкнутую сущность
вследствие полной изоляции от внешнего мира и строгой социальной и морально-поли-
тической системы, регулировавшей всю жизнь [японца] в мельчайших деталях…;
Сегодня через весь японский мир проходит глубокий раскол, который разделяет стар-
шее, угасающее поколение от молодого, рвущегося вперед;
Как в конце концов оформится японская народная душа под новыми переменчивыми
влияниями, никто не может судить. Мы наблюдаем эту душу в процессе преобразова-
ния… (Ibid.: 314-315).
Описывая “раскол японского мира”, Бельц демонстрирует смену ценност-
ных установок, происходящую в японском обществе, анализирует истоки этих
установок и сопровождает свои рассуждения этнографическими примерами.
В 1904 г. увидела свет статья “О воинственном духе и презрении японцев
к смерти” (Baelz 1904). Упомянутые в заголовке качества Бельц ранее называл
особенностями, отличающими японцев от других представителей монголоид-
ной расы, важными чертами японской “народной души” (Baelz 1903: 318). Ста-
тья представляет собой эссе об отношении к смерти и жизни, понятиях чести и
долга, бытующих в японской культуре, насыщена историческим и этнографиче-
ским материалом, а также содержит анализ буддийской философии. Значитель-
ная часть личных наблюдений, которые приводит Бельц, относится к идущей
Русско-японской войне.
Анализ трудов Бельца показывает, что он старался следовать бастиановской
программе этнологии. Он неоднократно утверждал, что исследовать расы чело-
века лишь по скелету недостаточно, необходимо учитывать все признаки, прояв-
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
137
ляющиеся у живых людей. При этом изучение тела должно проходить строго с
учетом среды обитания и стиля жизни человека, поскольку условия жизни, писал
он, отражаются на внешнем облике людей всего за несколько поколений. Если
возможно, исследователь должен учитывать и физическую, и социальную, и куль-
турную деятельность человека, чтобы сделать шаг “от соматики (Somatik. - Н.Л.)
в область этники (Ethnik. - Н.Л.), и только объединение их обеих составляет ис-
тинную антропику (Anthropik. - Н.Л.). Высочайшей целью этой науки должна
быть сравнительная антропика и психология; однако это прекрасный идеал, от
которого мы еще далеко отстоим, хотя путь к нему ясно указан в работах Басти-
ана о народной душе и народных идеях” (Baelz 1901a: 167-168). Так, во многих
его работах видны попытки этого перехода “от соматики к этнике” и выражается
согласие с идеями Бастиана о роли среды в формировании расовых и культурных
различий и, следовательно, о необходимости компаративистских исследований.
Восприятие идей Бельца в этнологии. Самая яркая и запоминающаяся из
идей Бельца - впоследствии полностью опровергнутая теория о европеоидности
айнов. Именно эта гипотеза ассоциировалась с его именем как у современников,
так и у более поздних исследователей. Так, советский антрополог М.Г. Левин
отмечал, что гипотеза Бельца о происхождении айнов от древнего европеоидного
населения Восточной Азии, которое составило основу и современных европей-
ских рас, получила развитие у Ж. Монтандона и Э. фон Эйкштедта (Левин 1958:
288). Действительно, немецкий расовед Э. фон Эйкштедт ссылается на него в
первую очередь в этой связи, соглашаясь и с тем, что когда-то весь север Сибири
был заселен “европидными элементами” (von Eickstedt 1944: 483); но, кроме того,
он выстраивает свои рассуждения об антропологическом составе населения Япо-
нии, отталкиваясь от теории Бельца о его трехсоставности, которую, впрочем, в
итоге отвергает (Ibid.: 492-494), и заимствует идею о возможной роли течения
Куросио в процессе заселения островов (Ibid.: 490).
Несмотря на то, что в отношении европеоидности айнов Бельц был очевид-
но неправ, проведенные под его руководством физические измерения японцев,
айнов и рюкюсцев дали результаты, приведшие его к корректным выводам. Так,
работа В.Е. Дерябина и Д.С. Давыдовой, основанная на антропометрических
данных, собранных в 1946 г. под руководством М.Г. Левина, также говорит о
сходстве айнов с населением Рюкю. В этом исследовании тоже выделяются ре-
гиональные варианты, схожие с корейским населением, и антропологические
типы, сближающиеся с населением Вьетнама и Южного Китая. Таким обра-
зом, результаты антропологических изысканий Бельца в конце XIX в., позво-
лившие ему говорить о двух “расовых элементах” - маньчжуро-корейском и
малайо(южно)-монгольском в составе японцев, - а также о родстве айнов и
рюкюссцев, в целом подтвердились на аналогичных материалах советских уче-
ных ХХ в. и при анализе этих материалов современными методами в начале
XXI в. (Дерябин, Давыдова 2010: 120-121). Кроме того, краниологические ис-
следования сближают в некотором роде айнов и рюкюссцев: обнаруживается
явная преемственность между неолитическим (культура Дзёмон) населением
Японии и айнами, а также сходство рюкюссцев по отдельным параметрам то
ли с дзёмонцами, то ли с айнами - интерпретация этого сходства зависит от
исследовательского подхода (Козинцев 2017: 87, 97). Современные объяснения
подобных наблюдений отличаются от трактовок Бельца, однако совпадения в
промежуточных результатах говорят о состоятельности его методологии.
Возвращаясь к проблеме рецепции идей Бельца, необходимо отметить, что
отечественным исследователям его работы были знакомы. Так, его неоднократно
упоминал М.Г. Левин (Левин 1958: 288; 1971: 195-196). С.А. Арутюнов также
пользовался его данными, говоря об айнской принадлежности керамики эпохи
138
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Дзёмон (Арутюнов 1960: 60) и о том, что сходство татуировок рюкюских и айн-
ских женщин нельзя считать случайным (Арутюнов 1957: 13). А.Б. Спеваковский
писал, что Э. Бельц и Э. фон Эйкштедт пошли “дальше всех в своих умозри-
тельных заключениях” о родстве айнов с европейцами (Спеваковский 2017: 11),
а процитированный выше А.Г. Козинцев упоминал Бельца и в связи с идеей о
родстве айнов с рюкюссцами (Козинцев 2017: 97). Можно, пожалуй, утверждать,
что во второй половине ХХ в. Бельц был более интересен советским японистам,
чем собственно немецкоязычным; немецкие исследования Японии в этот период
уходят больше в область гуманитарных и социальных дисциплин.
Из японских авторов Бельц оказал влияние как лично, так и своими работа-
ми на Коганэи Ёсикиё, одного из виднейших исследователей этнической исто-
рии и расового состава японцев начала ХХ в. Судзуки отмечает, что Коганэи в
целом принял теорию Бельца о расовом составе населения Японии, хотя и не-
сколько изменил терминологию. Если оставить за скобками разницу в методах
исследования, пишет Судзуки, объяснение смешанного типа японцев у Коганэи
строилось так же, как и у Бельца; кроме того, его концепция оказала большое
влияние на последующие научные изыскания, проводимые такими учеными,
как, например, Киёно Кэндзи (Судзуки 1974: 6-7), - антрополог и этнолог, автор
теории метисации в споре об этногенезе японцев (Suzuki 1981: 11).
Сегодня некоторые пассажи Бельца могут показаться в этическом смысле
сомнительными. В частности, он даже в научных выступлениях и публикациях
прибегал порой к приемам, которые сегодня мы назвали бы риторическими или
даже популистскими: чего только стоит утверждение, что пожилой Лев Тол-
стой “на своей последней, широко разошедшейся фотографии может считаться
айнским типом” (Baelz 1901b: 19). Бельц вообще подчеркивал схожесть айнов
именно с русскими, которые в его схеме также подверглись в прошлом метиса-
ции с монголоидами. Правда, ко времени этой публикации идея о том, что айны
похожи на русских (особенно русских крестьян), бытовала в европейской науке
уже как минимум десятилетие: например, ее высказывал еще в начале 1890-х
годов британский исследователь Д. МакРитчи (Трынкина 2021: 160, 168).
Также в одной из статей Бельц подкрепил анекдотом с Чикагской выстав-
ки свои рассуждения о том, что если неолитическим населением Японии были
все-таки древние эскимосы, как утверждал Цубои, то тогда они несомненно
находятся в родстве с современными японцами: на выставке он, осматривая
“эскимосскую деревню”, встретил японцев, с ужасом убегавших прочь, осознав
свое сходство с “живыми экспонатами”, которые еще и радостно кричали им
что-то вслед (Baelz 1907: 287).
Еще более сомнительным кажется утверждение о том, что один физический
тип японцев (маньчжуро-монгольский) соотносится с правящим сословием, а
другой (южномонгольский) - с простонародьем. Приводя в качестве доказатель-
ства в частности этот пассаж, корейская исследовательница Ким Хой Юн практи-
чески обвиняет его в расизме и высказывает подозрения, что своими “расовыми”
соображениями о корейцах Бельц мог подкреплять оккупационные претензии
японского правительства в отношении Кореи - в том числе через свою дружбу с
премьер-министром Ито Хиробуми (Kim Hoi-Eun 2013: 180-181). Однако стоит
заметить, что в публикациях Бельц никогда не основывал свои выводы исключи-
тельно на анекдотах, а подводил под них аргументы, соответствующие научному
уровню и стилю своего времени. Что же касается преобладания определенного
физического типа в каком-то сословии, то оно им объяснялось очередностью ми-
граций населения того и другого типа на Японские острова, а не биологическим
превосходством одного из них; кроме того, всегда оговаривалось, что из этой за-
кономерности есть исключения - это преобладание никогда не подавалось как
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
139
абсолютное. Наиболее близким расизму его научным высказыванием является,
пожалуй, сравнение “сацумцы - спартанцы Японии”: развивая мысль о европео-
идных следах на юге Японии, он выделяет провинцию Сацума как местность, в
которой часто встречаются соответствующие черты (и где ранее проживали ха-
ято, которых он относил к той же группе). Далее он описывает роль сацумской
знати в свержении сёгуната в 1866 г. и указывает на преобладание выходцев из
Сацума в командном составе японских армии и флота и, подводя итоги, пишет,
что “японская провинция, в которой обнаруживается большинство кавказоидных
типов, всегда занимала особое положение”, однако тут же оговаривается: “…не
я не хочу сказать, что это связано с особой кровью, я только констатирую факт”
(Baelz 1911: 190). Учитывая, что поиск взаимосвязей между физическими (в том
числе расовыми) и интеллектуальными, психическими и даже моральными ха-
рактеристиками был вполне в духе времени в целом и бастиановской традиции
в частности, неудивительно, что подобные аналогии приходили Бельцу на ум;
однако примечательно, что, во-первых, сам он открещивался от далекоидущих
выводов и, во-вторых, зачастую пытался объяснять физиологические явления
особенностями культуры, а не наоборот.
Заслуживает упоминания отдельная значимая часть научного наследия Бель-
ца - его обширные этнографические и художественные коллекции. В 1892 г.
ученый удостоился звания члена совета королевства Вюртемберг за передачу
в штутгартский Музей промышленности и прикладного искусства коллекции
в 3300 предметов. За этим первым пожертвованием последовали и другие (пе-
редача 4000 живописных и графических работ японских художников в 1893 г.)
(Germann 2014: 291). Сегодня основная часть собраний Бельца хранится в Музее
имени Линдена в Штутгарте, где составляет большую часть японской коллекции
(почти 6000 предметов) (Brandt 2005: 694). Кроме того, в Этнологическом му-
зее в Берлине хранятся привезенные Бельцем айнские предметы и дзёмонская
керамика из материалов раскопок в Токио в 1888 г. (Ibid.: 578). Штутгартские
коллекции были не раз описаны и изданы в виде каталогов, берлинские еще до
конца не изучены. Современное положение собраний описано в коллективной
монографии, посвященной японским коллекциям в Европе (Kreiner 2005), а о со-
бирательской и меценатской деятельности Бельца писала С. Германн (Germann
2014: 291-295, 322, 326-328, 340, 349, 389-390).
*
*
*
Принадлежность исследовательского подхода Бельца к немецкой этнологи-
ческой традиции второй половины XIX в. очевидна: профессия врача не толь-
ко обуславливала особенный интерес ученого к физической антропологии, но и
давала ему тот же инструментарий и оптику, с которых начинали и крупнейшие
звезды немецкой этнологии, А. Бастиан и Р. Вирхов, также медики по образова-
нию; обилие немецких специалистов, особенно в первые годы жизни Бельца в
Японии, позволило им создать собственную среду, поддерживающую немецкие
академические традиции; личный интерес к науке и желание оставить в ней свой
след побуждали к непрерывной исследовательской деятельности и поддержива-
ли стремление быть в курсе последних веяний в европейской и американской
науке. Тем не менее объективные факторы отрывали Бельца от этой традиции:
осознание, что вернуться в университетскую среду Германии после многолетней
работы в Японии практически невозможно, заставило его оставаться на Востоке
до конца собственной карьеры, а географическая дистанция привела к тому, что
работы Бельца, изданные в Японии, оставались неизвестны на Западе или дохо-
дили туда слишком поздно. Бельц в 1901 г. с горечью пишет: “Г-н Боас недавно
140
Этнографическое обозрение № 4, 2022
выдвинул требование, что при изучении человеческих рас следует отныне делать
графические зарисовки головных объемов живых людей, - и комментирует: - он,
вероятно, не знал, что я делал их уже 20 лет назад и публиковал, и с тех пор не-
прерывно продолжал этим заниматься” (Baelz 1901: 170).
Вероятно, верно и обратное: держаться на острие науки, не будучи активно
включенным в западную академическую среду, было нелегко; какие-то вещи,
по поводу которых в Европе складывался хотя бы относительный консенсус,
ему приходилось переизобретать самостоятельно. Так, в условиях относитель-
ной изоляции Бельц выработал собственную антропометрическую методику,
которой следовал в своих многочисленных исследованиях и на основании кото-
рой делал серьезные выводы.
Оценивать результаты его исследовательской деятельности с точки зрения
влияния на европейскую этнологию можно двояко: с одной стороны, та мето-
дология физикоантропологических исследований, которой он так гордился, на
Западе осталась малоизвестной и невостребованной, а бастиановская научная
программа, которой он следовал, в немецкой этнологии в начале XX в. уступила
место диффузионистской. Но, с другой стороны, некоторые его выводы поль-
зовались значительным авторитетом среди современников и младших коллег, а
его коллекции до сих пор занимают почетное место в музеях.
Благодарности
Исследование было проведено при поддержке Стипендиального фон-
да Австрийской Республики (Stipendienstiftung der Republik Österreich für
Undergraduates, Graduates und Postgraduates) и Австрийского агентства меж-
дународного сотрудничества в сфере образования и науки (Österreichischer
Austauschdienst-GmbH).
Примечания
1 Факты биографии Бельца изложены по: Germann 2014.
2 При этом Бельц уточняет: “Термин монголы мы используем в общем смысле,
в котором он охватывает всю желтую расу, а не лишь монголов в узком смысле...
<…> Первое, более широкое толкование этого понятия, принято в антропологии,
последнее, более узкое, - в сравнительном языкознании” (Baelz 1883: 337).
3 Так наз. монгольское пятно - пигментное образование, часто наблюдае-
мое у младенцев и детей монголоидной расы, которое Бельц описал в 1883 г.
(Baelz 1885: 40). Он обнаружил его у японцев и не нашел у айнов, сделав из
этого вывод, что монгольское пятно - четкий маркер монголоидности, каковым
оно и считалось в науке некоторое время. На сегодняшний день известно, что
оно может наблюдаться не только у представителей монголоидной расы, однако
именно описание Бельца привлекло внимание антропологов к этому явлению.
4 В тексте Бельца - “западное побережье”, однако это очевидная ошибка,
скорее даже описка. Во-первых, более мощный рукав течения Куросио идет
именно вдоль восточного побережья Японии, а во-вторых, чего точно не мог
не знать Бельц, провинция Хю:га также была расположена на востоке о. Кюсю.
Источники и материалы
Baelz 1883 - Baelz E.v. Die körperliche Eigenschaften der Japaner. 1. Teil //
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens.
1883. Bd. 3 (1880-1884). H. 28 (1883). P. 330-359.
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
141
Baelz 1885 - Baelz E.v. Die körperliche Eigenschaften der Japaner. 2. Teil //
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens.
1885. Bd. 4 (1884-1888). H. 32 (1885). P. 35-103.
Baelz 1901a - Baelz E.v. Maenschen-Rassen Ostasiens mit specieller Rücksicht auf
Japan // Zeitschrift für Ethnologie. 1901. P. 166-190.
Baelz 1901b - Baelz E.v. Die Ostasiaten. Stuttgart: Verlag von Konrad Wittwer, 1901.
Baelz 1903 - Baelz E.v. Zur Psychologie der Japaner // Globus. 1903. Bd. LXXXIV
(20). P. 313-319.
Baelz 1904 - Baelz E.v. Über den kriegerischen Geist und die Todesverachtung der
Japaner. Yokohama: Verlag der Deutschen Japan-Post, 1904.
Baelz 1907 - Baelz E.v. Zur Vor- und Urgeschichte Japans // Zeitschrift für Ethnologie.
1907. H. 3. P. 281-310.
Baelz 1911 - Baelz E.v. Die Riu-Kiu-Insulaner, die Aino und andere kaukasieränliche
Reste in Ostasien
// Korrespondetz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1911. Jg. 42. № 8-12. P. 187-191.
von Eickstedt 1944 - von Eickstedt E.F. Rassendynamik von Ostasien. Berlin: Walter
de Gruyter & Co., 1944.
Научная литература
Арутюнов С.А. Об айнских компонентах в формировании японской народности
и ее культуры // Советская этнография. 1957. № 2. С. 3-14.
Арутюнов С.А. К оценке роли миграций в древней истории Японии // Советская
этнография. 1960. № 1. С. 60-71.
Дерябин В.Е., Давыдова Д.С. Антропологические варианты в составе японцев //
Этнографическое обозрение. 2010. № 1. С. 116-131.
Козинцев А.Г. Айны, японцы, их предки и соседи: результаты краниоскопиче-
ских исследований в Японии // Айнская проблема (вопросы этногенеза и эт-
нической истории айнов) / Отв. ред. А.Б. Спеваковский. СПб.; Владивосток:
Рубеж, 2017. С. 87-110.
Левин М.Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего
Востока. М.: Наука, 1958.
Левин М.Г. Этническая антропология Японии. М.: Наука, 1971.
Спеваковский А.Б. “Айнская проблема” и айны в этнической истории дальне-
восточного региона (на основании новейших данных) // Айнская проблема
(вопросы этногенеза и этнической истории айнов) / Отв. ред. А.Б. Спеваков-
ский. СПб.; Владивосток: Рубеж, 2017. С. 10-48.
Судзуки Х. Профессор Коганэи Ёсикиё и доктор Эрвин фон Бельц (Коганэи
Ёсикиё сэнсэи то Эрвин фон Бельц хакасэ) // Journal of the Anthropological
Society of Nippon. 1974. Vol. 82 (1). Р. 1-9. (на яп. яз.)
Трынкина Д.А. Викторианская эвгемеристическая концепция о фейри в британ-
ской и американской викке // Шаги/Steps. 2021. Т. 7 (2). С. 156-174. https://
doi.org/10.22394/2412-9410-2021-7-2-156-174
Brandt K.J. Department of Eastern Art of the Linden-Museum in Stuttgart // Japanese
Collections in European Museums. Vol. II / Ed. J. Kreiner. Bonn: Bier’sche
Verlaganstalt, 2005. P. 693-697.
Germann S. Erwin von Baelz (1849-1913). Von Bietigheim nach Tokyo. Eine
Biographie. Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur, 2014.
Kim Hoi-Eun. Measuring Asian-ness: Erwin Baelz’s Anthropological Expeditions in
Fin-de-Siecle Korea // Imagining Germany, Imagining Asia: Essays in Asian-
German Studies / Eds. V. Fuechtner, M. Rhiel. Rochester: Camden House, 2013.
P. 173-185.
142
Этнографическое обозрение № 4, 2022
Kreiner J. (ed.) Japanese Collections in European Museums. 2 vols. Bonn: Bier’sche
Verlaganstalt, 2005.
Singh I.P., Bhasin M.K. Anthropometry. Delhi: Bharti Bhawan, 1968.
Stocking G.W. On the Limits of “Presentism” and “Historicism” in the Historiography
of the Behavioral Sciences // Journal of History of Behavioral Sciences. 1965.
Vol. 1 (3). P. 211-218.
Stocking G.W. Victorian Anthropology. N.Y.: Collier Macmillan, 1987.
Suzuki Н. Racial History of the Japanese // Rassengeschichte der Menschheit. Vol. 8 /
Hrg. I. Schwidetzky. München: R. Oldenburgverlag, 1981. P. 7-78.
R e s e a r c h A r t i c l e
Liubimova, N.S. German Ethnological Tradition in Studies of Japan: Erwin von
Baelz as Anthropologist and Ethnologist [Nemetskaia etnologicheskaia traditsiia
v izuchenii Yaponii: Ervin fon Bel’ts kak antropolog i etnolog]. Etnograficheskoe
EDN: HXUCTI ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
(32a Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
Erwin Baelz, history of science, German ethnology, Japanese studies, origins of the
Japanese
Abstract
This article offers a closer look at Erwin von Baelz’s academic work in the field
of anthropology and ethnology. A biographical sketch demonstrates factors that
influenced his research and its reception in the academic world. The analysis of
anthropological and ethnological works of Baelz outlines his most important findings
and conclusions as well as his theoretical views. Baelz’s works were very mainstream
for their time in terms of the subject of study, methodology, and theoretical background.
However, it is also a case of isolation, since the geographical distance between Japan
and Europe prevented him from fully participating in European academic discourse.
The effects of such isolation present themselves in the reception of his work: he was
mostly mentioned by the scholars who shared his opinion on the European origins
of the Ainu as his academic standing was enough to legitimize this theory as proven,
while other ideas and observations of his remained mostly unnoticed.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation [grant
ID: 075-15-2022-328]
References
Arutyunov, S.A. 1957. Ob ainskikh komponentakh v formirovanii yaponskoi
narodnosti i ee kul’tury [On Ainu Components in Formation of the Japanese and
Their Culture]. Sovetskaia etnografiia 2: 3-14.
Arutyunov, S.A. 1960. K otsenke roli migratsii v drevnei istorii Yaponii [The Role of
Migrations in Ancient History of Japan]. Sovetskaia etnografiia 1: 60-71.
Любимова Н.С. Немецкая этнологическая традиция в изучении Японии...
143
Brandt, K.J. 2005. Department of Eastern Art of the Linden-Museum in Stuttgart.
In Japanese Collections in European Museums, edited by J. Kreiner, II: 693-697.
Bonn: Bier’sche Verlaganstalt.
Deriabin, V.E., and D.S. Davydova. 2010. Antropologicheskie varianty v sostave
yapontsev
[Anthropological Variants of the Japanese]. Etnograficheskoe
obozrenie 1: 116-131.
Germann, S. 2014. Erwin von Baelz (1849-1913). Von Bietigheim nach Tokyo. Eine
Biographie [Erwin von Baelz (1849-1913): From Bietigheim to Tokyo, the
Biography]. Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur.
Kim Hoi-Eun.
2013. Measuring Asian-ness: Erwin Baelz’s Anthropological
Expeditions in Fin-de-Siecle Korea. In Imagining Germany, Imagining Asia:
Essays in Asian-German Studies, edited by V. Fuechtner and M. Rhiel, 173-185.
Rochester: Camden House.
Kozintsev, A.G.
2017. Ainy, yapontsy, ikh predki i sosedi: rezul’taty
kranioskopicheskikh issledovanii v Yaponii [Ainu and Japanese, Their Ancestors
and Neighbours: The Results of Cranioscopic Investigations in Japan].
In Ainskaia problema (voprosy etnogeneza i etnicheskoi istorii ainov) [The Ainu
Problem (Issues of Ethnogenesis and Ethnic History of the Ainu)], edited by
A.B. Spevakovskii, 87-110. St. Petersburg; Vladivostok: Rubezh.
Kreiner, J., ed. 2005. Japanese Collections in European Museums. 2 vols. Bonn:
Bier’sche Verlaganstalt.
Levin, M.G. 1971. Etnicheskaia antropologiia Yaponii [Ethnic Anthropology of
Japan]. Moscow: Nauka.
Levin, M.G. 1958. Etnicheskaia antropologiia i problemy etnogeneza narodov
Dal’nego Vostoka [Ethnic Anthropology and the Problems of Ethnogenesis of the
Peoples of the Far East]. Moscow: Nauka.
Singh, I.P., and M.K. Bhasin. 1968. Anthropometry. Delhi: Bharti Bhawan.
Spevakovskii, A.B.
2017.
“Ainskaia problema” i ainy v etnicheskoi istorii
dal’nevostochnogo regiona (na osnovanii noveishikh dannykh) [The Ainu
Problem and the Ainu in Ethnic History of the Far East Region (Based on the
Newest Data)]. In Ainskaia problema (voprosy etnogeneza i etnicheskoi istorii
ainov) [The Ainu Problem (Issues of Ethnogenesis and Ethnic History of the
Ainu)], edited by A.B. Spevakovskii, 10-48. St. Petersburg; Vladivostok: Rubezh.
Stocking, G.W. 1965. On the Limits of “Presentism” and “Historicism” in the
Historiography of the Behavioral Sciences. Journal of History of Behavioral
Sciences 1 (3): 211-218.
Stocking, G.W. 1987. Victorian Anthropology. New York: Collier Macmillan.
Suzuki, Н. 1974. Koganei Yoshikiyo sensei to Erwin von Baelz hakase [Koganei
Yoshikiyo (1858-1944) and Erwin von Baelz (1858-1913)]. Journal of the
Anthropological Society of Nippon 82 (1): 1-9. (In Jap.)
Suzuki, Н. 1981. Racial History of the Japanese. In Rassengeschichte der Menschheit
[Racial History of Mankind], edited by I. Schwidetzky, 8: 7-78. München:
R. Oldenburgverlag.
Trynkina, D.A. 2021. Viktorianskaia evgemeristicheskaia kontseptsiia o feiri v
britanskoi i amerikanskoi vikke [Victorian “Fairy Euhemerism” in British and
9410-2021-7-2-156-174