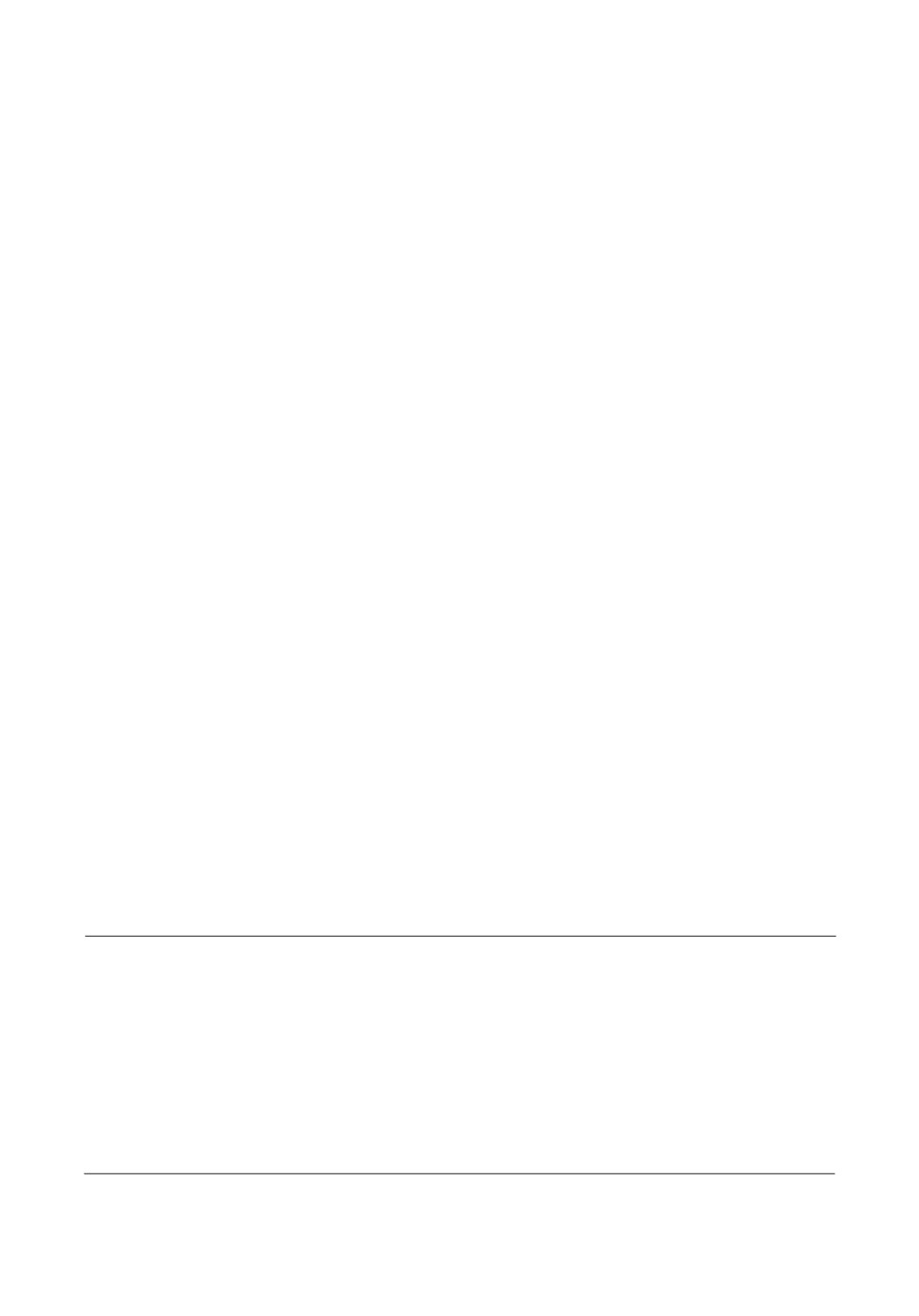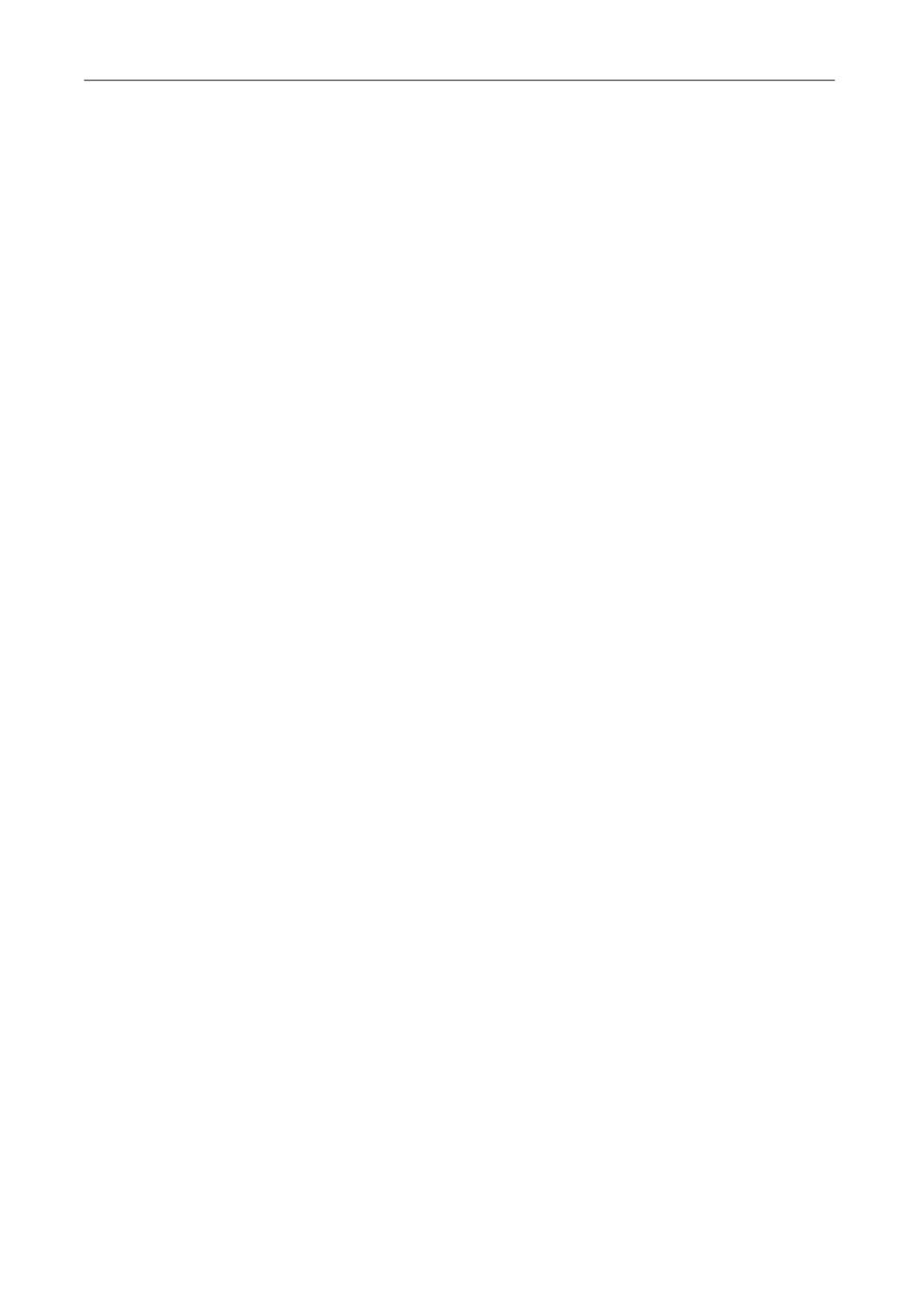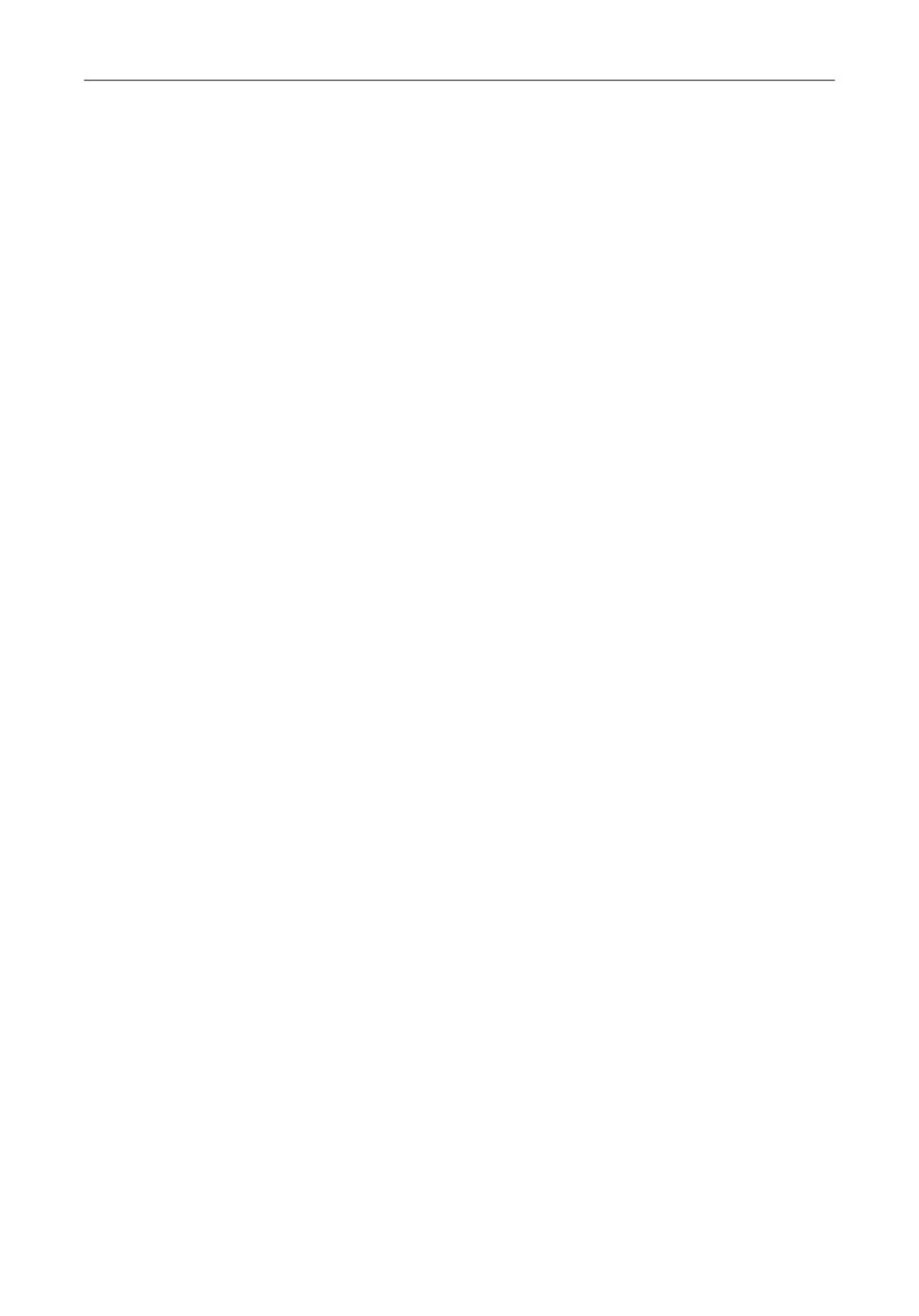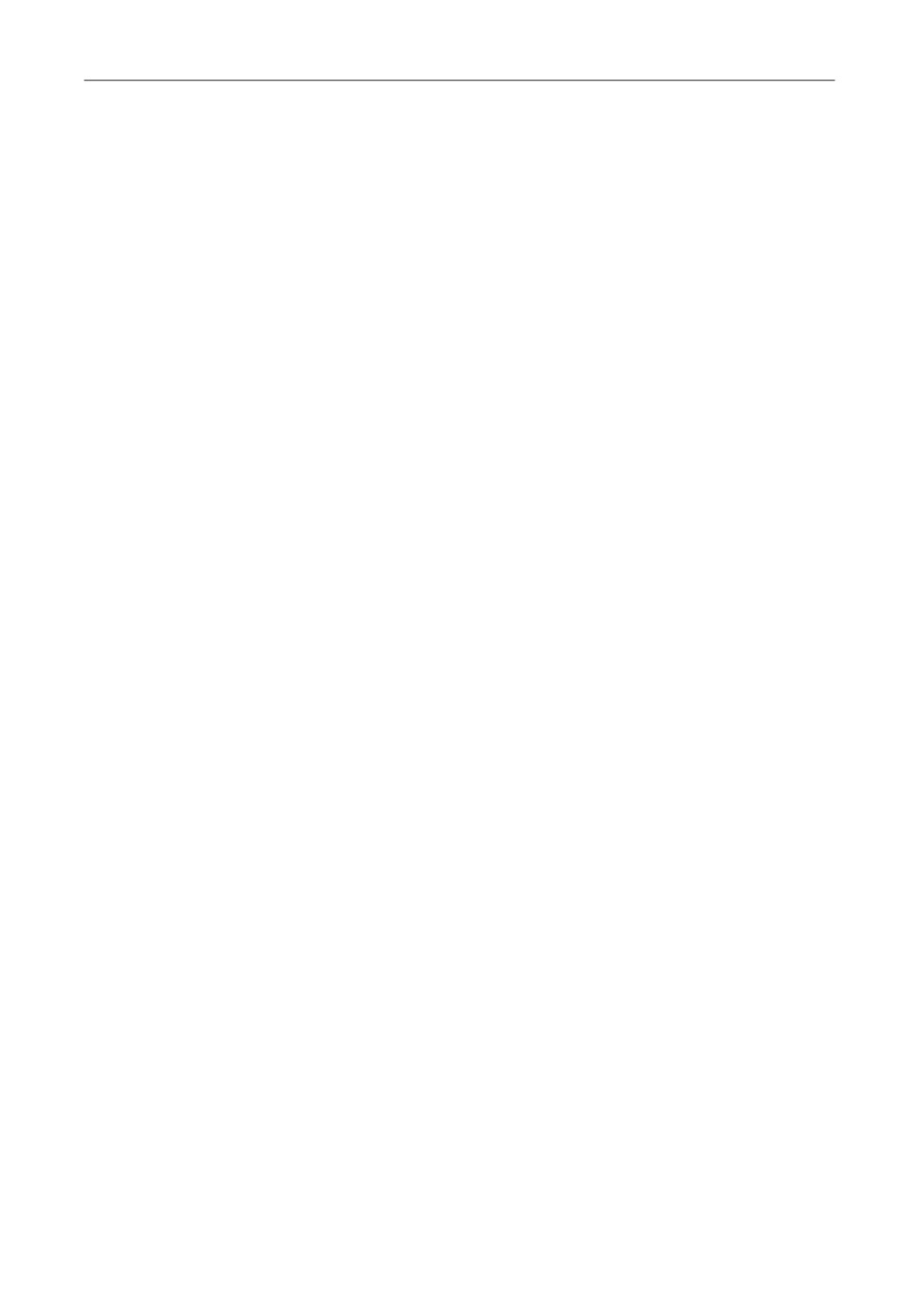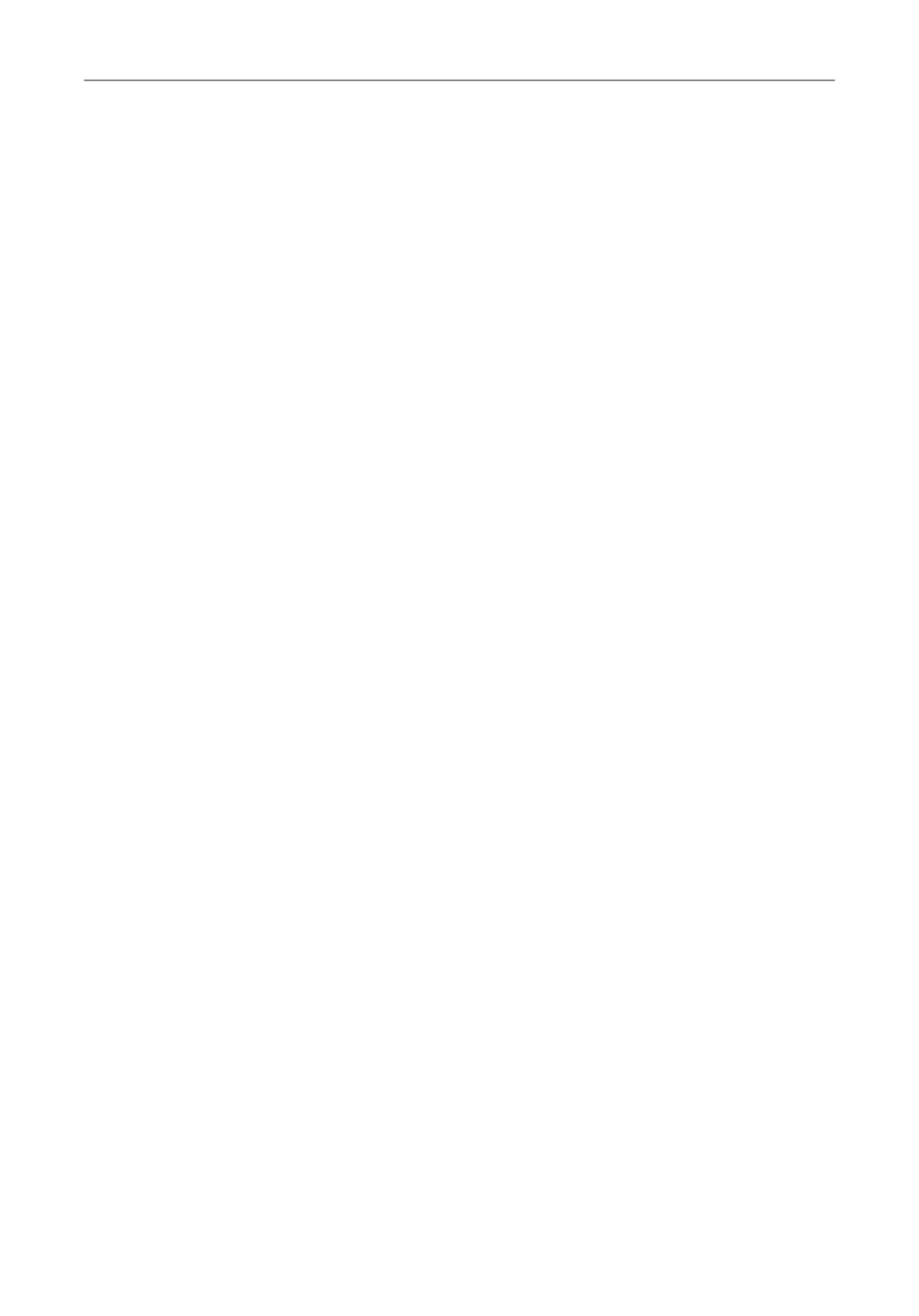К ЭКОЛОГИИ СОЗНАНИЯ И АФФЕКТА: КОММЕНТАРИИ
Д.А. Баранов, А.В. Верле, М.Д. Мирошниченко, С.С. Петряшин,
А.А. Филатова, С.Ю. Шевченко, С.В. Соколовский
Дмитрий Александрович Баранов
|
|
dmitry.baranov@list.ru | к. и. н., заведующий отделом этнографии русского народа | Рос-
сийский этнографический музей (ул. Инженерная 4/1, Санкт-Петербург, 191186, Россия)
к. филос. н., доцент кафедры философии и теологии | Псковский государственный уни-
верситет (пл. Ленина 2, Псков, 180000, Россия)
Максим Дмитриевич Мирошниченко
|
|
jaberwokky@gmail.com | к. филос. н., младший научный сотрудник Института гуманитар-
ных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева | Национальный исследо-
вательский университет “Высшая школа экономики” (Покровский бульвар 11, Москва,
109028, Россия)
Станислав Сергеевич Петряшин
|
|
s-petryashin@yandex.ru | к. и. н., научный сотрудник отдела этнографии русского народа |
Российский этнографический музей (ул. Инженерная 4/1, Санкт-Петербург, 191011,
Россия)
к. филос. н., доцент Школы образования ТюмГУ | Тюменский государственный универ-
ситет (ул. Володарского 6, Тюмень, 625003, Россия)
к. филос. н., старший научный сотрудник | Институт философии РАН (ул. Гончарная 12
стр. 1, Москва, 109240, Россия)
Сергей Валерьевич Соколовский
|
|
sokolovskiserg@gmail.com | д. и. н., главный научный сотрудник | Институт этнологии
и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)
Ключевые слова
экстернализм, энактивизм, экология памяти, когнитивная микрониша, аффекты, эво-
кативные объекты, ближняя среда, экстенсии, распределенное сознание, материальная
культура, политика идентичности
Статья поступила 27.06.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 26.07.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Баранов Д.А., Верле А.В., Мирошниченко М.Д., Петряшин С.С., Филатова А.А., Шевченко С.Ю.,
Соколовский С.В. К экологии сознания и аффекта: комментарии // Этнографическое обозрение.
Baranov, D.A., A.V. Verle, M.D. Miroshnichenko, S.S. Petriashin, S.S. Filatova, S.Y. Shevchenko, and
S.V. Sokolovskiy. 2022. K ekologii soznaniia i affekta: kommentarii [On the Ecology of Mind and Affect:
EDN: IAFQUE
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
77
Аннотация
В настоящей публикации представлено обсуждение статьи С.В. Соколовского “Вещи, аф-
фекты и экология разума: о материальных аспектах политики идентичности”, в которой
автор размышляет о роли экологически распределенных и укорененных в ближней среде
когнитивных и аффективных свойств и вещной среды в реализации политики идентич-
ности. Критические замечания по поводу аргументации автора и свой взгляд на тему из-
лагают Д.А. Баранов, А.В. Верле, М.Д. Мирошниченко, С.С. Петряшин, А.А. Филатова и
С.Ю. Шевченко.
Информация о финансовой поддержке
(исполнитель М.Д. Мирошниченко)
Грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения:
075-15-2022-328) (исполнитель С.В. Соколовский)
СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЕСТАМИ И ВЕЩАМИ
Д.А. Баранов
Пришло время для собирания мелочей, для долгого и
старательного уплотнения всей среды нашего оби-
тания. Пришла пора человеку, гордо объявившему
себя мерой всех вещей, увидеть в вещах свою малую
меру - предел определения. Страшнее всего на этой
земле - соблазн беспредметности, и никогда не лиш-
ним будет предмет, пусть малый и случайный, кото-
рый нас над этой пропастью держит.
(Топоров 1995: 90)
Статья С.В. Соколовского охватывает довольно широкий круг проблем,
большинство которых находится на стыке разных дисциплин и школ. Это нашло
и свое внешнее выражение, например, в стиле и используемой терминологии,
неожиданных переходах от чуть ли не “эзотерического” языка до вполне себе
повседневного. Работу не просто комментировать по причине впечатляющей
широты диапазона обозначенных в ней проблем и подходов в материальных
(и не только) исследованиях. Для полноценной дискуссии нужно как минимум
быть знакомым со всеми теми новейшими публикациями в сфере социальных и
гуманитарных дисциплин, на которые ссылается автор. Другая сложность обу-
словлена тем, что обсуждаемая работа носит большей частью ознакомительно-
обзорный характер с элементами анализа - жанр, на мой взгляд, не вполне
обычный для дискуссии. Именно поэтому моя реплика касается скорее не самой
статьи С.В. Соколовского, а некоторых действительно актуальных вопросов, за-
тронутых автором во второй ее части. Эти вопросы сводятся к одной общей
проблеме, которую простыми словами можно сформулировать так: как вещи,
благодаря своей материальности, в ходе взаимодействий с людьми, включаю-
щих изготовление и использование предметов, обладание и обмен ими и т.д.,
участвуют в политике индивидуальной идентичности? Или, если прибегнуть к
хайдеггеровской метафоре молотка, можно сказать несколько иначе: статья под-
нимает вопрос о том, как молоток может создать определенный тип личности.
78
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Подобные смещения фокуса в сторону объективации, когда “вещи, которые
производят люди, формируют людей” (Miller 2005: 8), отсылают нас к разноо-
бразным направлениям материальных исследований, которые условно включа-
ются в так наз. материальный поворот. Вообще, широкое использование мета-
фор выступает, если можно так сказать, вывеской данного поворота и является
одновременно и сильной, и слабой его сторонами. Сильной, потому что прием
инверсии, переворачивание с ног на голову, в данном случае - приписывание
вещам интенциональности и способности обладать политикой (Ваннини 2011:
23), позволяет в иной перспективе взглянуть на взаимодействия людей и вещей,
увидеть в последних субъектность. Если же согласиться с данным Э. Вивейру-
шем ди Кастру изящным определением объекта как недостаточно проинтерпре-
тированного субъекта (Вивейруш ди Каcтру 2017: 55), то эвристический потен-
циал использования метафор очевиден.
С другой стороны, опасность излишней метафоризации заключается в том,
что от постоянного использования метафоры подвергаются риску реификации,
и тогда возникают трудности в распознавании того, идет ли речь о метафоре
или о буквальном понимании концепта, например, агентности вещей. Если го-
ворить об агентности вещи в прямом смысле, то следует согласиться с Г. Хар-
маном, утверждающим, что человеческие отношения принципиально не от-
личаются от взаимоотношений неодушевленных объектов (Харман 2012: 76).
Выглядит подобное утверждение довольно радикально, и даже представители
материального поворота достаточно осторожно используют понятие агентно-
сти не-человеков, опасаясь обвинений в излишней антропоморфизации. Если
под агентностью понимать способность материальных объектов к действиям,
то она, как заметил Т. Ингольд, является абсолютно загадочным свойством
(Ингольд 2020: 114). Поэтому следует всегда оговаривать, что подразумевается
под этим понятием, и если уж употреблять его в отношении материальных
объектов, то не в смысле их активных действий и обладания ими интенцио-
нальностью, а скорее в значении противодействия, поскольку первоначальный
импульс подобного рода взаимодействия, так сказать инициатива, исходит от
человека. Кроме того, одним из парадоксов использования метафор, на кото-
рый уже обращалось внимание, заключается в опасности депроблематизации
вопроса, поскольку исследовательская метафора позволяет незнакомое сделать
знакомым, непривычное - привычным и тем самым снять проблему.
Предыдущие рассуждения вполне применимы и к обсуждаемому С.В. Соко-
ловским понятию политики идентичности, а точнее - роли материальных объ-
ектов в реализации персональной политики идентичности. Что имеют в виду,
когда говорят, что вещи обладают политикой? Означает ли это, что артефакты
могут иметь разум и намерения или эти разум и намерения им приписываются
человеком - это человеческий разум, который только и доступен нашему пони-
манию (Gell 1998: 17)? Скорее последнее, т.е., иными словами, вещи начина-
ют определять политику лишь в ситуации наличия определенных социальных
взаимоотношений, а это значит, что материальные объекты являются, по всей
вероятности, ресурсами и инструментами для создания, поддержания и восста-
новления статусных различий, а не самостоятельными агентами. Идентичности
человека - гендерная, социальная, возрастная - не только отражаются в вещах,
которые он сделал или которыми владеет, но и постоянно нуждаются в поддерж-
ке посредством изготовления этих вещей, что находит свое подтверждение на,
так сказать, эмном уровне. Сравните, например, весьма характерное для сель-
ского жителя высказывание: “Он для хозяйства всякую вещь сделает. Для му-
жика это главное дело. Не зря говорят: кабы не лыко да бересто, и мужик бы
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
79
развалился” (Филева 2018: 28). Здесь можно увидеть тот самый материальный
аспект политики идентичности, о котором пишет С.В. Соколовский.
В этом смысле ничего нового, за исключением вокабулярия, в понятиях “по-
литика идентичности”, “материальная экстенсия” и т.д. нет - в свое время об
этом, но в других терминах, писали филологи. Так, например, Т.В. Цивьян го-
ворила о способности материального объекта не только вступать с человеком
в равноправные отношения, содержащие в себе порою зерна соперничества,
но и охранять и поддерживать в том числе его статус (Цивьян 2001: 123, 137).
В.Н. Топоров пошел дальше, указывая, что человек вынужден “контролировать
себя, вести себя осмотрительнее, будучи под взглядом вещи” (Топоров 1995: 99).
Он описывал явления, которые гораздо позднее назовут экстенсией, или, в тер-
минах Д. Миллера, материальностью субъекта, т.е. распределением личности
в вещах (Miller 2005: 8), на примере ряда мифологических традиций, в кото-
рых актуально представление о предметах как о некоем внешне отчуждаемом
теле их хозяина, продолжающем свое неотчуждаемое тело (Топоров 1983: 255,
сноска 58). На это следует заметить, что верно и другое, прямо противоположное
суждение: личность человека может быть описана как результат собирания или
изготовления вещей, как своего рода проекция ансамбля предметов. Подобная
перспектива позволяет рассматривать вещи не в статике, а процессуально, как
некое континуальное событие, в которое вовлечен человек. Т. Ингольд, пред-
лагая альтернативу агентности материальности, призывает сконцентрироваться
не на жизни в вещах, а на вещах в жизни, которые находятся в постоянном дви-
жении (Hicks 2010: 77). Это движение предметов сопровождается изменением
онтологического статуса личности взаимодействующего с ними человека.
В целом филология не выстраивала непроницаемых барьеров между объ-
ектом и субъектом и учитывала разные перспективы, нередко заимствуя их у
литературы, фольклорных текстов и мифопоэтических представлений. Для фи-
лологии подобное “превращение объектов в людей” (Hicks 2010: 10), знакомое
в “мифологическом регистре”, оказалось удобным концептом - с помощью него
можно было описывать отношения между людьми и вещами как субъектно-
субъектные. Это стало, вероятно, следствием развития теории полифонии
М. Бахтина, применение которой к материальным объектам позволило услы-
шать “голос” вещей.
Итак, “материальная” политика идентичности может включать в себя про-
цессы и конституирования человеком себя в результате изготовления, исполь-
зования/потребления вещей, признания себя в производимых объектах, выбора
тех возможностей (аффордансов), которые предлагает среда, и “овеществле-
ния” памяти. Тут, в связи с цитированием С.В. Соколовским описания Собаке-
вича из “Мертвых душ”, уместно вспомнить другого героя этого произведения -
Плюшкина, для которого многие предметы выступают беглым наброском его
собственной биографии.
Как мне кажется, проблематизация этих и других материальных аспектов
политики идентичности предполагает наличие у исследователя “нового вита-
листского материального воображения”, о котором пишет, правда по другому
поводу, Ф. Ванини (Vannini 2015: 319). Это воображение было у филологов, но
оно не получило своего продолжения в виде теоретического осмысления. Мате-
риальное воображение означает не тривиальную анимацию предметной среды,
а выработку - и здесь абсолютно прав С.В. Соколовский - соответствующе-
го аналитического словаря для концептуализации субъектности материальных
объектов, для описания ситуации, когда разрушаются границы между людьми,
местами и вещами.
80
Этнографическое обозрение № 5, 2022
В заключение отмечу, что, несмотря на обилие и разнообразие работ, посвя-
щенных предметному миру, и попытки найти место для материи в материаль-
ности в более глобальной перспективе, актуальным остается вопрос, как соеди-
нить материальную науку с собственно материальностью.
ВЗГЛЯД ВЕЩИ:
НА ПУТИ К ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ
АНТРОПОЛОГИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
А.В. Верле
Обсуждаемая здесь статья проблематизирует границы предмета и словарь в
одной из интереснейших областей антропологии - теории политики идентич-
ности. В науках о человеке существует заметное расхождение в языках описа-
ния. Используемые то тут то там терминологии только сами внутри себя ка-
жутся эвристически устойчивыми, но в приближении к рубежам растворяются,
утрачивают определенность. Особенно это касается понятий, отсылающих к
человеческой исключительности: разум, язык, общество, культура. Постгума-
нистические переопределения человека не только и не столько в его будущем,
сколько в его прошлом открывают перспективы для нового конституирования
базовых принципов (ср.: Феррандо 2022). Новое осмысление человека остро
нуждается в интегральных и трансдисциплинарных интуициях и маршрутах,
траектории которых связывают разные антропологии, экологию, искусствове-
дение, этологию, художественные практики, политическую теорию, техноло-
гию, эпистемологию, теорию эмоций и т.д. В общем виде фундаментальной
задачей является уход от редукционизма и иных тактик упрощения в сторону
сложного мышления на рубежах дисциплин и практик. Антропология вещи ви-
дится как один из маршрутов в такой перспективе. В этой связи представляется
важным обозначить несколько идей, странствующих вокруг и около обсужда-
емой статьи. Формат дискуссии позволяет отнестись к понятиям и их возмож-
ным дефинициям несколько бесцеремонней, чем обычно принято. Представля-
ется полезным указать на некоторые точки пересечения различных стратегий,
описанных в статье.
Пересечения антропоэкологии, идеи распределенного сознания, онтологии
артефакта, феноменологии конституирования мыслечувственного могут быть
тематизированы, например, в теории взгляда. Материал для такого предприя-
тия нам дают исследования истории эмоций, эстетики лица, работы по фено-
менологии повседневного опыта, социальной психологии, искусствоведению,
этологии. Ж.-П. Сартр в “Бытии и ничто”, вспоминая, как, будучи участником
Сопротивления, скрывался с товарищами в кустах недалеко от занятой врагом
фермы, пишет о феномене взгляда:
Всякий взгляд, направленный на меня, обнаруживается в связи с появлением чувствен-
ной формы в нашем перцептивном поле, но в противоположность тому, что можно было
бы думать, он не связан ни с какой определенной формой. Конечно, то, что чаще всего
обнаруживает взгляд, так это направленность двух глазных яблок на меня. Но он хорошо
обнаруживается также в шорохе ветвей, в шуме шагов, следующем за тишиной, в приот-
крывании ставни, в легком движении занавески. Во время атаки люди, которые ползут в
кустах, постигают взгляд, которого нужно избежать, не пару глаз, но всю белую ферму,
выделяющуюся на фоне неба на вершине холма (Сартр 2000 [1943]: 280-281).
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
81
Обратим внимание на то, что у взгляда нет формальной определенности.
“Взгляд фермы” как возможный взгляд возможных глаз сродни чувству, когда
спиной ощущаешь невидимый взгляд. У сложного и антропологически важно-
го понятия “взгляд” нет какой-либо определенности в науке. Попытка ее уста-
новить сопряжена с сущностными проблематизациями, которые здесь будут
конспективно намечены в контексте обсуждаемых тем.
Типовому определению взгляда как направленности зрения на что-нибудь
или кого-нибудь (ср.: Ожегов, Шведова 2006: 79) противоречит уже то, что
взгляд - это не столько действие субъекта, сколько то, что на него воздействует.
Данное уточнение позволяет почувствовать всю сложность объема этого по-
нятия. Допустим в качестве гипотезы, что переход от субъективистской лока-
лизации взгляда к его вещно-объективному позиционированию есть один из
эпизодов онтологического поворота. Остановимся в этой связи на феномене
“взгляда вещи”, отмеченном уже Ж.-П. Сартром. Заметим, что обладать взгля-
дом может все, что имеет сколь угодно условный вид лица: электрическая ро-
зетка, пятно на стене, окно дома, кора дерева… Феномен лица - это отдельная
проблема, которая рассматривается в антропологии в связи с нормой и ано-
малией (ср.: Элкинс 2010: 17-54), в искусствоведении как эстетика портрета
(ср.: Woodall 1997), в теории эмоций как культурно и исторически изменчивый
выразительный комплекс (ср.: Плампер 2012), в криминалистике как иденти-
фикационный габитоскопический антропознак - но проблема “лица вещи”,
насколько известно, остается малоизученной. Взгляды с фрески, иконы, фо-
тографии, сила, слабость, рассеянность, сосредоточенность, монументальная
мимолетность, пристальность, запредельность, узнаваемость, открытость и
сокрытость этих взглядов - поле для перспективных исследований, в част-
ности, в области антропологии вещи (ср.: Антонов 2014). Бартовское поня-
тие punctum’а из его философии фотографии в некотором смысле может быть
осмыслено как “взгляд вещи”, ибо представляет собой, как и взгляд вообще,
влекущую к себе и в себя “деталь”, “укол”, “рану”, “перфорацию”, “чувстви-
тельную точку” (Барт 2011 [1980]). Взгляд на этом первом подступе уже утра-
чивает свою антропологичность. Добавим сюда взгляд животного (ср.: Жуандо
2016) и отдельный тип взгляда - взгляд невидимый: взгляд из чащи, из колодца,
из тьмы и, конечно, с небес - этот взгляд вовсе не имеет ничего общего с лицом
и глазом. Домашние вещи в их интерьерном немом переглядывании друг с дру-
гом и с нами в профилях и анфасах образуют насыщенные аффектами взглядов
пространства нашего быта как бытия. Каталог и типология взглядов могли бы
быть обширными, но хотелось бы оставить эту работу и обратить внимание
на еще один существенный момент, непосредственно относящийся к понятию
идентичности и к ее политике.
Вещная среда, пронизанная взглядами, взглядами конституированная, где
вещи, тела, их состояния и события представляют собой сложные констелля-
ции, есть место, в котором обретается взаимная определенность вещей. Здесь
уместно вспомнить как о символическом интеракционизме и теории “зеркаль-
ного Я” Ч. Кули, так и о “драматургическом подходе” И. Гофмана. Широко из-
вестные концепции формирования Я в интерпретативном поле Других в пер-
спективе антропоэкологии вещи приобретают особый смысл. Вещные порядки
и беспорядки, представленные в их аффективно-когнитивных конфигурациях,
безусловно, являются элементами сложного состава “фронта”, в котором и осу-
ществляется представление себя другим и иным в повседневной жизни. К. Гирц
уже давно отмечал:
82
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Обнаруженное антропологами разнообразие духовных верований, систем классифика-
ции или структур родства различных народов, причем не только их непосредственных
форм, но и самих способов бытия-в-мире, которые они одновременно поддерживают и
выражают собой, распространяется также на их барабаны, резьбу, песнопения и танцы
(Гирц 2010 [1976]: 38).
Материальная культура в тех или иных средах и локусах - это пространство
объективированного взгляда, работа которого конструирует индивидуальную
идентичность. Вещные конфигурации выступают полем трансидентичности.
Представляется, что идентичность (индивидуальная и групповая) конституи-
руется как констелляция вещей. В этом смысле, в предельном отношении, мы
должны говорить о мире как о распределенной идентичности. По сути, лю-
бое повседневное бытие вписано в порядок (точнее - в целое) мира, и любое
разделение, например на духовное и материальное, редуцирует его внутрен-
нюю связность и макроэкологию к ситуативным познавательным конструктам.
То есть реальность (=вещность) пронизана неким универсальным полем, эф-
фекты которого в одних средах определяются как интенции притяжения физи-
ческих объектов, в других - как коллективное чувство присутствия иного или
ценностное отношение, в третьих - как взгляд или внимающее любопытство.
В работе “Материя и память” А. Бергсон писал: “В общем, воспринимать -
значит сгущать огромные периоды бесконечно растянутого существования в
несколько дифференцированных моментов более интенсивной жизни, резюми-
руя, таким образом, очень длинную историю. Воспринимать - значит иммоби-
лизировать” (Бергсон 1999 [1896]: 626). Вещные констелляции в своей дина-
мике представляют собой события континуума, манифестирующие потоковую
целостность мира. В переходе от восприятия к восприятию, от вещи к вещи - во
взгляде, в связанности, в отношении, в между и через только и улавливается
“длинная история”. Отдельность вещи, тела и чего бы то ни было - эффект сгу-
щения в восприятии, во взгляде, в отношении. Мысль Дж. Беркли “быть, зна-
чит быть вопринимаемым” (“to be” means “to be perceived”) в контексте антро-
пологии “взгляда вещи” обретает дополнительный смысл. Культура и вообще
сознание предстают как онтологические эффекты. И здесь в ряду упомянутых
мыслителей самое место вспомнить и Спинозу с его фундаментальной идеей:
сознание и протяженность - лишь два из множества атрибутов единой субстан-
ции (ср. об актуальности Спинозы: Винчигуэрра 2007).
Еще один важный аспект вещности и внесубъективности связан с транс-
формацией человека в вещь. Человеческое тело становится вещью не только на
войне или в больнице, но и в смерти. При этом противостоящее овеществлению
человека общение в практике погребального ритуала дает богатый материал для
осмысления этой стороны идентичности. Р. Герц писал, что “смерть восприни-
мается коллективным сознанием как временное выпадение человека из круга
общения людей. Выпадение заключается в том, что умерший перебирается из
реального общества живых в недоступное взору общество предков” (Герц 2019
[1905]: 177). Здесь фиксируется важное и тревожное соотношение взгляда, тела
и смерти. Овеществление переживается как сокрытость, т.е. как удаленность в
области вне возможностей взгляда. Или, как писали в автооповещениях в соц-
сетях, “объект удален либо вы больше не имеете прав его видеть”. Здесь воз-
никает важная проблема сокрытости вещи, оппозиционная проблеме взгляда
с его принципиальной открытостью. Особое значение погребальных ритуалов
во всех культурах свидетельствует и об особом значении столкновения с жи-
вым как с вещью. Представляется, что иллюзия расхождения духа и тела роди-
лась из этого столкновения. Но по меньшей мере подготовка нового языка для
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
83
разговора с ушедшим - одна из важнейших функций погребального ритуала.
В этой связи можно обратить внимание и на особое отношение взгляда и смерти
в феномене сглаза (ср.: Shamash 2020).
Хотелось обратить внимание и на такой аспект идентичности в плане вещ-
ного бытия, как мотив старости, поношенности вещи, ее поломки, который
предстает как модус ее удостоверенной подлинности. Наиболее яркое опи-
сание этот феномен получил в короткой заметке А. Зон-Ретеля “Идеальные
поломки”. Здесь автор очень точно отмечает, что человек “присваивает себе
власть над машиной не столько потому, что изучил инструкцию, как потому,
что обрел в машине свое собственное тело” (Зон-Ретель 2016 [1926]: 83).
“Настоящая собственность, - продолжает А. Зон-Ретель, - должна быть ис-
пользована на всю катушку, иначе что с нее возьмешь, ее нужно употребить
до последнего остатка, полностью исчерпать, поглотить и пожрать” (Там же).
Любой артефакт в этой перспективе является телесной экстенсией. И более
того, осмелюсь предположить, и само тело является экстенсией вещного мира,
т.е. его артефактом.
В обсуждаемой статье очень точно обозначены неопределенность и недо-
статочность онтологии артефакта. Представляется, что упомянутая онтология
имеет перспективы, если возьмется за рассмотрение пограничных областей и
мерцающих феноменологических границ между артефактом, вещью и телом.
Художественные практики ассамбляжа, инсталляции, перформанса могут мно-
гое прояснить открытому взгляду исследователя идентичностей. В качестве
примера можно привести творчество американского художника Дж. Корнелла,
обращавшегося к вещам и ассоциативным образам прошлого. Идентичность
предстает и работает у Дж. Корнелла как вещный порядок, а процесс консти-
туирования идентичности оказывается процессом обретения укорененности в
вещных порядках, в их эфемерности (Hartigan 2007). Воображаемое прошлое в
подобных арт-проектах вызывает, например, вопрос о сущности и интерпрета-
тивных тактиках современных этнографических коллекций. Выбор предметов в
них, определенный случайностью, обстоятельствами, вкусом и пристрастиями
собирателя, доступностью объектов и их отчуждаемостью, в дальнейшем про-
воцирует интерпретации на уровне описаний, порождающие интерпретации на
уровне толкований. Все это истолковывающее движение оказывается абсолют-
но параллельным действительным смыслам рассматриваемой культуры просто
потому, что некие артефакты, составляющие ее суть, в силу своей “непрезен-
табельности” остались незамеченными. С другой стороны, в горизонте самой
культуры, возможно, эти “неявные” объекты могут не подлежать интерпрета-
ции. В любом случае в культуре (мире) как целом мы имеем дело с локальны-
ми тактиками смысла, а выход к стратегиям общего возможен гипотетически
только при их некой многозначной транспозиции, где конкретность вещи и тела
утрачивает определенность, где превалирует дрейф, смещающий устоявшиеся
смыслы в зону неопределенности, удерживая при этом функциональное содер-
жание этих смыслов.
Политика идентичности, как представляется, является частным случаем
вещной онтологической определенности. Тавтологическая парадоксальность
идентичности, как отмечал А.Д. Шмелёв, находит разрешение в естественном
языке (Шмелёв 1990: 50). Хочется верить, что и антропология сможет опреде-
лить идентичность в своем поле, обратившись к таким естественным практи-
кам повседневности, как взгляд, домашний обиход, смерть и воспоминание.
84
Этнографическое обозрение № 5, 2022
ВОЗВОДЯ КОГНИТИВНУЮ СТЕНУ
М.Д. Мирошниченко
Был ряд секретных передач, которые Травис слушал:
(1) костным мозгом: образы дюн и кратеров, лужи пеп-
ла, что заключали расслоенные лица Фрейда, Изерли и
Гарбо; (2) грудным отделом: корпуса немецких подлодок,
ржавеющие на пляже бухты Циндао, близ разрушенных
немецких фортов, где китайские проводники размазы-
вали по стенкам кессонов кровавые отпечатки ладоней;
(3) крестцовым отделом: День победы над Японией,
тела японских военных ночью на рисовых полях.
(Баллард Дж. Выставка жестокости)
Я начну с небольшой ремарки о взаимоотношениях между живыми систе-
мами и их окружением, как их видел ранний энактивизм. Проект Франсиско
Варелы, Элеанор Рош и Эвана Томпсона производил разметку реальности, не
соотносящую друг с другом субъекты и объекты, опосредованные репрезента-
циями, а схватывающую динамизм взаимозависимого возникновения субъектов
и обитаемых миров (Varela et al. 1991). Именно в действиях, направляющих
и формирующих сенсорно-моторные детерминанты восприятия и мышления,
осуществляется мир. И здесь не имеется в виду, что миров, как сказал бы Жан-
Люк Нанси, требуется столько, чтобы сложился единый всем мир, некая всегда
уже обретенная данность объективного мира. Наоборот, из энактивизма следу-
ет, что мир как таковой - точнее, разнообразные миры, с которыми сопряжены
множественные формы жизни - лишен объективных оснований. Безосновность
мира означает, что его в строгом смысле не существует вне действий по его соз-
данию; эти действия, в свою очередь, предшествуют как субъекту действия, так
и тому, что ими производится. Энактивизм изначально находится в этической
системе координат.
Что нам делать в мире, лишенном оснований, заселенном существами, ли-
шенными субстанциального “Я”? Ведь и для когнитивизма, и для энактивизма
важно, что субъект познания/действия возникает как поперечный срез процес-
сов индивидуации в среде. Конечно, при таком видении становления индивида
границы между телом, средой и “расширениями” становятся зыбкими и неста-
бильными. Индивид - это всегда гибрид, и его автономия конституируется на
более высоком уровне сложности, чем уровень его восприятия. Располагается
ли процесс индивидуации выше или ниже порога индивидуального осознания,
можно спорить, и все же важным здесь выступает отказ от прочерчивания чет-
ких и однозначных границ.
Стоит тем не менее провести несколько концептуальных различий, кото-
рые могли бы быть полезными в дискуссии. Во-первых, есть смысл различать
тезис о расширенном познании и тезис о воплощенном познании. Делокали-
зация смысловых структур среды соответствует делокализации когнитивных
процессов, принимаемой в расширенном познании: познание не ограничено ни
пределами мозга, ни поверхностью кожи, а оказывается и “внутри”, и “вовне”.
В то время как для расширенного познания граница между организмом и сре-
дой размывается, поскольку процессы могут быть “овнешнены” и расширены,
для энактивизма полупроницаемая граница между живой системой и ее окру-
жающей средой оказывается метаболически необходимой. Организм упрочива-
ет свою автономию посредством дифференциации себя от среды, в то время как
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
85
в расширенном познании сама его автономия есть результат конституирования
внешними, средовыми процессами.
Во-вторых, кажется важным конкретизировать идею “расширения” в кон-
тексте современного состояния энактивизма, а точнее - синкретической фор-
мации 4EA (Embodied, Embedded, Enactive, Extended, Affective), объединяю-
щей исследователей по всему миру. Реляционное, экстерналистское понимание
когнитивных процессов в расширенном познании - не то же самое, что мо-
дификация этого тезиса, включенная в миролюбивый синтез современного
энактивизма на равных правах с остальными составляющими аббревиатуры.
“Каноническая” версия этой идеи основывалась на философском функциона-
лизме, который отождествляет когнитивные способности системы с ее функ-
циональной организацией. Проще говоря, познание не расположено нигде кон-
кретно, оно рассредоточено вдоль контура абстрактной организации системы.
Системе не обязательно воплощаться в плоти и крови, у нее даже может не
быть мозга, самости и тела в привычном понимании. Она может представлять
собой кремниевое соединение или поток солнечного ветра. Главное - обладать
структурой, позволяющей ей вести себя определенным образом, который мы,
люди, привыкли считать познанием, наделением мира смыслом и оформляю-
щей деятельностью. Отныне субъект - даже не пучок перцепций, а набор струк-
турирующих способностей, которые можно выводить наружу, распределять и
рассеивать, культивируя “инженерию себя”.
Энактивистским ответом, впрочем так и оставшимся на маргиналиях дис-
куссий 2000-х годов, была идея инкорпорирования технологий, артефактов и
объектов. Жизнь в энактивизме склонна к саморасширению, отсылающему к
вариативным нормам жизнеспособности. Чтобы избежать дезинтеграции, орга-
низм вынужден поддерживать рекуррентные связи со средой, удерживая свою
полупроницаемую целостность посредством постоянного химического и энер-
гетического обмена. Жизнь определяется через способность вовлекать в свою
деятельность процессы, которые она сама производить не может, инкорпорируя
в исполнение своих функций то, что поддерживает их “извне”. Эван Томпсон,
Том Фрезе и Эсекьель Ди Паоло перечисляют новые и искусственные органы,
протезы и расширения тела, вовлекаемые в телесную схему, в качестве приме-
ров таких “живых посредников” связи организма с миром (Thompson, Stapleton
2009; Froese 2014; Di Paolo 2009). Не зря Аннмари Мол и Джон Ло говорят, что
парадигмальная активность тела - это метаболизм, а не отстраненное наблюде-
ние (Мол, Ло 2017). Элизабет Гросс, в свою очередь, напоминает, что инкорпо-
рация всегда соотнесена с экспорпорацией, потому пределы “расширений” тела
становятся весьма неопределенными: расширяют ли органические границы
тела моча, фекалии, слюна, кровь, волосы, ногти, кожные покровы и семенные
жидкости (Grosz 1994: 81)? Понятно, что инкорпорирование оказывается чем-
то иным, чем простое расширение, ведь оно обладает не только когнитивным,
но и эмоционально-аффективным измерением опыта субъекта.
Не секрет, что, прежде чем когнитивистика обратила внимание на гибрид-
ный характер когнитивной деятельности, фигура киборга, т.е. гибрида человека,
животного и машины, была введена постгуманистическим феминизмом. Донна
Харауэй использовала это понятие, чтобы найти новые стратегии сопротивле-
ния технологической и колониальной экспансии капитализма (Харауэй 2017).
Лишь впоследствии, в 2010-х годах, энактивисты причислили Харауэй к ряду
своих попутчиков, чьи этико-политические аргументы можно использовать и
как критику некоторых предпосылок когнитивной науки - ее атомизма и нечув-
ствительности к культуральным аспектам познания. Энди Кларк, Том Фрезе и
Ламброс Малафурис без устали напоминают нам, что мы эволюционно сфор-
86
Этнографическое обозрение № 5, 2022
мировавшиеся киборги, чей мозг биологически склонен делегировать часть
когнитивных процессов элементам окружающей среды (Clark 2007; Malafouris
2015). Вот что позволяет не только осваивать новые практики и умения, но и пе-
редавать их другим, филогенетически закрепляя обновляемые габитусы сквозь
поколения.
Но где можно встретить современных киборгов? Тобин Сиберс, говоря о
влиянии инвалидности и неизлечимых заболеваний на жизни пациентов, всколь-
зь утверждает, что такие люди - тоже киборги, однако в совсем ином смысле
(Siebers 2001). Киборги Харауэй бессмертны, они наслаждаются своими про-
извольно конструируемыми телами. Они не болеют, не стареют и не умирают,
одним словом, им неизвестно страдание. Понятно, что, в свете утверждения
Сиберса, киборгами будут люди, чья жизнь продлевается и поддерживается био-
медицинскими технологиями. До их появления такие пациенты были обречены
на смерть, ведь их считали уязвимыми и зависимыми, “овощами”, не способ-
ными позаботиться о себе. Аппараты ИВЛ, протезы, импланты и искусствен-
ные органы, инструменты альтернативной и аугментированной коммуникации,
диализ и плазмаферез - все это способы поддержания жизни тех, кто иначе был
бы “не жилец”. Говоря коротко, киборги у Харауэй не испытывают боли, в то
время как большинство случаев расширения/инкорпорирования технологий в
тело сопряжено с болевыми ощущениями и экзистенциальным дискомфортом.
“Активный экстернализм” как будто укрывает эту двойственность технологий.
Заслуживает внимания тот факт, что люди с различными инвалидностями и
нарушениями становились экспериментальными субъектами при разработках
пользовательских интерфейсов и эргономических сред, ведь принято считать,
что любая “юзабельная” технология по определению ассистивна. Работая отла-
женно, она выполняет роль протеза, опоры, ассистирующей в создании микро-
ниши, которая никогда не бывает этически нейтральной.
Впервые понятие киборга было введено медиками Манфредом Клайнсом и
Нейтаном Клайни. Оно резюмировало представление о человеческом организ-
ме как модулярной системе с заменимыми органами-запчастями (Kline 2009).
Киборг - это тот, чьи органы замещаются искусственными аналогами, скажем,
чтобы адаптировать и усовершенствовать его возможности к экстремальным
физическим нагрузкам. В 1960-е годы американские кибернетики пытались
создать прототипы киборгических технологий. Так, Норберт Винер проекти-
ровал аппарат “слышащая перчатка”, впоследствии им запатентованный (Mills
2011). Аппарат задумывался как вспомогательное устройство для слабослыша-
щих людей, которое “переводило” бы звук человеческого голоса в вибрации,
подаваемые на чувствительную поверхность ладони. Оказавшийся неудачным,
этот проект тем не менее по своей сути был первой попыткой применить ки-
бернетические представления о живых и мыслящих системах к человеку, не
называя при этом последнего киборгом. Уже в этом намечалось восстановление
медицинской нормы. Каждое такое “расширение” задним числом создает соот-
ветствующую ему “неспособность”, несоответствие господствующей норме, -
резюмирует Поль Б. Пресьядо (Preciado 2018).
Насколько внутренними являются интернализованные артефакты умозре-
ния, оптики и глубинных убеждений? В самом ли деле мои убеждения при-
надлежат мне? Хочется напомнить, что Шон Галлахер и его коллеги по цеху
“критической нейронауки” отвечают на этот вопрос отрицательно. Нет, говорят
они, убеждения и системы ценностей суть не врожденные идеи, это вмененные
представления, накладывающие ограничения на наши способности, потребно-
сти и запросы. Коллективные практики нормализуют действия и восприятия,
предписывая одни действия и воспрещая другие. Этим формируется горизонт
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
87
культурных аффордансов, задающий систему ожиданий и подкрепляющий
определенный поведенческий репертуар (Slaby, Gallagher 2015). Этому пред-
ставлению не избежать явной аналогии с ложным сознанием и идеологической
надстройкой, становящимися технологиями политического управления. Гал-
лахер, отвечая Кларку и Чалмерсу, педалирует особую роль институтов, пред-
ставляющих собой не только первичную среду социализации, но и основной
пример “расширения” тела и его способностей (Gallagher 2013). Мы обраща-
емся к специалистам в какой-то области, чтобы что-то узнать или уточнить
наши познания. Кларк считал, что абстрактные понятия, концепты и теории в
“компрессированном” виде дают комплексные цепочки информации, которые
можно использовать, не задумываясь о том, кем они были созданы и какова их
история (Clark 2000).
Можно увидеть в этом когнитивистский аналог феноменологических седи-
ментаций - истин, по словам Жака Деррида, установленных “однажды, но раз и
навсегда”. Галлахер же считает, что опорой индивидуальных когнитивных про-
цессов могут быть как отдельные люди, так и коллективы или институты, где
последние были сформированы и установлены до нас и без нас. Напрашивает-
ся замечание, которое можно углядеть и у Фрезе: отождествление артефактов
и людей неэтично, ведь нам знакомы примеры, когда целые народы, классы и
социальные группы расчеловечивались и сводились к объектам или орудиям.
При этом Фрезе и Ди Паоло не смущает, что предустановленная институцио-
нальная нормативность ограничивает автономию человека, ведь, отнимая одни
возможности, она будто бы дарует нам другие. Мишель Майезе и Роберт Хан-
на считают, что такое институциональное нормирование имеет амбивалентную
природу. Индивид может “подключиться” не только к развивающим, но и к де-
формирующим институтам, и каждый из них по-своему вычерчивает онтоге-
нез индивида (Maiese, Hanna 2019). Социальность, стало быть, не столько рас-
ширяет, сколько формирует и фундирует индивида, она не может трактоваться
как очередное нейтральное расширение. Конечно, в современном мире именно
деформирующие институты влияют на наш жизненный мир - тем сильнее, чем
успешнее его научно-технологическая колонизация. И это приводит к тому, что
вместо когнитивных ниш возводятся когнитивные стены, обороняющие суще-
ствующий миропорядок.
Политику идентичности как концепт, задающий тон решениям в области
социальной политики некоторых стран первого мира, много критиковали. Ос-
новная проблема политики идентичности состоит в эссенциализации способов
существования и субъективации. Феминизм и критическая теория пытались по-
казать, что идентичность - это, во-первых, нечто текучее и лишенное субстан-
циального основания, а во-вторых, возникающее из практик интерпелляции,
дисциплинирования и контроля. Одно дело - быть полиморфным субъектом,
свободно меняющим способы самоидентификации и ускользающим от одно-
значного остенсивного определения, будь то “женщина”, “квир”, “субальтерн”,
и совсем другое дело - быть поименованным и этим включенным в существую-
щие конвенциональные рамки нормирования и субординации.
Близкую интенциям статьи Сергея Соколовского идею можно найти у Ка-
трин Малабу, когда она критикует менеджерский дискурс эффективности и
lifelong learning, будто бы подкрепленный “потрясающими фактами” из жизни
мозга (Малабу 2019). Неолиберализм говорит нам: ваш мозг пластичен, он мо-
жет стать кем угодно - ведь способность к трансформации индивидуального
нейрофизиологического рисунка коры зависит от ваших практик, навыков и об-
учаемости. Так будьте же эффективными и переобучаемыми на рабочем месте,
сделайте работу вашим хобби и страстью, используйте умение своего мозга
88
Этнографическое обозрение № 5, 2022
быть кем угодно - однако в порядке, регламентированном вашими професси-
ональными обязательствами и размеченном циклами работы и досуга. Иными
словами, пластичность оказывается у нас украденной. Вместо того чтобы быть
кем угодно, не укладываясь в нормативные идентичности, мы жертвуем пла-
стичностью, получая взамен ее конформистский суррогат - гибкость, работо-
способность и послушание.
Между тем один из важных уроков критической теории состоит в том, что
принятие уготованной господствующими социальными институтами идентич-
ности - трактуемой эссенциалистски просто потому, что ею нужно управлять,
подводить под законодательство и согласовывать с имеющимися коллективны-
ми представлениями - полностью совпадает с отказом от возможности быть
другим, не поддающимся заранее сформировавшимся определениям.
В связи с этим возникает вопрос: как совместить эту нейрофизиологиче-
скую, соматическую и эмоционально-аффективную свободу - или, как ска-
зал бы Ханс Йонас, “нуждающуюся свободу” (Jonas 2001) метаболизма, -
которая позволяет создавать множественные окружающие миры, раскрываю-
щие морфологическое и неврологическое разнообразие форм жизни, с норми-
рующими практиками политик идентичности? В самом деле, коль скоро грани-
цы между телом, технологиями и окружающей средой условны и фиктивны и
не совпадают с границами живой системы, возникающей на перекрестье этих
сопряженных друг с другом составляющих, то насколько корректно отсылать в
этом случае к готовности принимать на себя идентичность? Ведь она не просто
отводит такому вольно преобразующемуся субъекту некое местоположение в
пространстве социальной жизни, но и накладывает искусственные ограничения
на эти преобразования.
РАСШИРЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ И АНТРОПОЛОГИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
С.С. Петряшин
Когнитивные исследования в российской этнографии и антропологии не
пользуются популярностью и остаются по большей части уделом отдельных
ученых. Поэтому можно сказать, что статья Сергея Валерьевича Соколовского
не падает на “возделанную почву”, но “культивирует” дисциплинарный интерес
к когнитивной антропологии и смежным областям знания. Автор обсуждаемой
работы ставит перед собой задачу познакомить аудиторию с философскими и
психологическими концепциями распределенного сознания и обратить внима-
ние исследователей на конститутивную роль вещей в индивидуальной политике
идентичности. В исследованиях материальной культуры рецепция такого под-
хода отчасти подготовлена классическими для данной области антропологиче-
скими работами, нацеленными на решение смежных проблем. Краткий обзор
нескольких авторитетных концепций позволит посмотреть на предлагаемую
Соколовским перспективу через призму антропологии материальности.
Дэниел Миллер, Мэрилин Стратерн и Альфред Гелл в конце 1980-1990-х
годах опубликовали ряд трудов, открывших новую эпоху в антропологическом
изучении предметной среды1. Для “перезагрузки” этой тогда еще консерватив-
ной области исследований они отталкивались от современной им социальной
теории и философии. Особенно востребованными оказались неомарксист-
ские, (пост)структуралистские, семиотические, феноменологические подходы.
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
89
На основе этих теоретических ресурсов антропологи предложили свое решение
проблемы картезианского дуализма субъекта и объекта.
В исследовании “Материальная культура и массовое потребление” Дэниел
Миллер предложил видеть в товарах массового производства ресурс для ин-
дивидуализации (Miller 1987). Свои взгляды он противопоставил неомарксист-
ской критике “общества потребления”, которая предполагает, что современный
человек в процессе потребления стандартизированной продукции обезличи-
вается и отчуждается. Согласно Миллеру, люди сознательно выбирают те или
иные товары для развития и укрепления своих идентичностей. Методологиче-
ски он опирается на диалектику Гегеля и заимствует у него понятие объекти-
визации. Под объективизацией понимается процесс, когда человек инвестирует
себя в предметы, овеществляется в них, но лишь для того, чтобы потом реин-
корпорировать (потребить) расширенную и ранее “отчужденную” часть себя.
Соответственно, “объективизация” не соединяет автономные сущности - субъ-
ект и объект, - а их производит (Miller 2005: 9-10). Самосознание индивида,
т.е. способность рефлексировать и смотреть на себя как бы со стороны, требует
внешней позиции, которую и создают самоотчуждение и овеществление части
себя. Формируемая в процессе объективизации идентичность, однако, может
быть как индивидуальной, так и коллективной.
Концепция “дивидуала”, “делимой личности” (dividual, partible person),
была предложена Мэрилин Стратерн в монографии “Гендер дара” (Strathern
1988) в качестве альтернативы марксистским и феминистским интерпретациям
меланезийских культур, критикуемых за “вчитывание” в локальные контексты
западных концептов личности-индивида, гендера, труда, товара и др. Соглас-
но Стратерн, меланезийские личности (“дивидуалы”) конституированы отно-
шениями с другими людьми. Отношения при этом принимают форму даров.
Можно сказать, что каждая личность состоит из набора даров, полученных и
отданных другим людям. Постоянный обмен дарами - отделяемыми частями
личности - между людьми делает их личности динамичными, взаимозависи-
мыми и овеществленными. Каждый меланезиец, по мнению Стратерн, облада-
ет агентностью и способностью стратегически рассчитывать трансформацию
своей личности и “контрагента” в процессе обмена дарами. Гендерная принад-
лежность дара в этом контексте оказывается важной характеристикой, которую
необходимо учитывать при расчетах.
Исследование другого специалиста по Меланезии - Альфреда Гелла -
посвящено антропологии искусства (Gell 1998). В своей работе он развивает
идеи Стратерн и вводит понятия “распределенная личность” и “расширенное
мышление”. Согласно Геллу, человек, когда вступает во взаимодействие с не-
кой вещью, оставляет в ней сознательно или бессознательно часть себя. Впо-
следствии другие люди могу считать с этой вещи связанную с ней личность, ее
интенции и отреагировать на них. Поэтому Гелл признает за такого рода веща-
ми определенную социальную агентность, пусть и вторичную по отношению к
человеческой. Личность не привязана к физическому телу, но включает в себя
разнообразные индексы - следы, которые могут быть соотнесены с некоторым
человеком. Таким образом, индексы (“предметы искусства”) выступают вопло-
щениями социальных отношений, медиаторами действий и в этом ракурсе ос-
мысляются как “овнешненная” часть личности (см. подробнее: Петряшин 2018).
Мышление, по Геллу, также не ограничивается телом. Так, меланезийская
Кула как целое представляется ему формой мышления: «Разум может суще-
ствовать как объективно, так и субъективно, т.е. как схема обмениваемых объ-
ектов-индексов личности, в данном случае наручных браслетов и ожерелий,
так и как мимолетная последовательность “мыслей”, “интенций”, “ментальных
90
Этнографическое обозрение № 5, 2022
состояний” и др.» (Gell 1998: 232). Этот принцип гомологичности внутренне-
го и внешнего в личности касается и индивидуального мышления. Например,
полное собрание работ художника является объективной формой его творче-
ского мышления и позволяет в определенной степени проследить его развитие.
Темпоральная структура отношений между работами художника в рамках его
наследия “овнешняет или объективирует тот же тип отношений, который су-
ществует между внутренними состояниями ума художника как существа, на-
деленного сознанием” (Ibid.: 236). Другим примером может служить частная
коллекция и мышление коллекционера.
Обсуждаемые работы Миллера, Стратерн и Гелла за десятилетия “оброс-
ли” разнообразной литературой, критикующей и развивающей выдвинутые
ими тезисы, но объем реплики не позволяет их даже кратко описать. На фоне
работы Соколовского легко заметить, что в концепциях данных авторов вещи
очень сильно “социализированы” и свое значение обретают прежде всего во
взаимодействии и коммуникации между людьми. Когнитивисты, наоборот, в
своих работах порой позволяют себе выносить за скобки общество и прагма-
тику действий, вследствие чего человек в мысленном эксперименте оказыва-
ется один на один с вещами. В такой стерильной ситуации легче подчеркнуть
важность предметов для мышления и переживания эмоций. Возникает, однако,
необходимость адаптировать находки когнитивистов к реальности социальной
жизни. Также можно заметить, что в концепциях Миллера, Стратерн и Гелла не
различаются когнитивные и аффективные артефакты. Аффективная составля-
ющая вещей при этом кажется более ярко выраженной. Стандартные примеры
когнитивных артефактов, такие как записные книжки, часы, календари, компа-
сы, счеты, в их работах практически отсутствуют. Это, однако, может свиде-
тельствовать и об условности такого разделения в перспективе расширенной
личности. Один и тот же предмет может быть записан в оба класса. С этой
точки зрения приводимые Соколовским типологии артефактов - это во многом
типологии способов использования вещей, а не самих вещей как относительно
автономных сущностей.
В качестве примера такого многофункционального артефакта можно приве-
сти безмен - традиционный для России тип неравноплечных весов (см. подроб-
нее: Петряшин 2019). Он представляет собой деревянный или металлический
стержень, на одном конце которого находится противовес, а на другом -
крючок или чашка для груза. По стержню идет шкала измерений в фунтах или
килограммах, обозначенная точками или зарубками. Для взвешивания гру-
за петля передвигается вдоль безмена в поисках точки равновесия. Из этого
формального описания мы можем заключить, что безмен как измерительный
прибор является классическим когнитивным артефактом. При этом он может
быть классифицирован сразу несколькими способами. Он репрезентирует вес
другого, непосредственно с ним соприкасающегося предмета и, соответствен-
но, подпадает под определение индексального артефакта. Сама же состоящая
из ряда точек измерительная шкала, оценивающая вес в фунтах/кг, в силу своей
конвенциональной природы делает безмен символическим артефактом. Также
символический характер имеют мнемонические зарубки и насечки на безменах,
которые их владельцы иногда делали, чтобы отметить определенный вес (напр.,
одолженной соседям муки). Наконец, декор некоторых безменов содержит фи-
гуративные изображения (напр., человека с безменом в руках), что придает им
иконичность.
В рамках предложенной Соколовским типологии, однако, характеристика
безмена не может ограничиться его когнитивными функциями. Так, он служит
перцептивным артефактом, так как позволяет преодолеть ограничения физио-
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
91
логического чувства веса - недостаточно точного и субъективного - и даже за-
местить его. Безмен способен также вызывать различные аффекты. При помощи
безмена можно было легко обвешивать, поэтому отношение к нему в крестьян-
ской среде было двойственным. С одной стороны, безмен имел положительный
“моральный облик”, что отражено в ряде пословиц и загадок: “Железна душа
не берет барыша”; “Кто не крещен, не рожден, а правдой живет?” (Садовников
1876: № 454-455). С другой стороны, в фольклоре можно найти и его негатив-
ную характеристику: “Кто не имеет ни головы, ни рук, ни ног, а везде ходит и
всех обманывает?” (Там же: № 456). Как аффективный артефакт безмен мог
становиться и инструментом индивидуализации человека, частью его распре-
деленной личности. Так, безмен считался обязательным атрибутом скупщиков
и торговцев мелочным товаром - “безменников”, “тарханов”. Пословица при
этом рисует портрет скупщика из перспективы “облыжного” (лживого, неспра-
ведливого) безмена: “Тархан на промысел идет с мешком и облыжным безме-
ном, а домой едет на возу” (Даль 1909: 728).
Безмен как аффективный артефакт может иметь не только оценивающий ха-
рактер, но и мотивирующий. Например, в южнорусских областях были распро-
странены обрядовые обходы домов с целью проверки трудолюбия домочадцев.
Проверку осуществлял ряженый персонаж, который нередко брал с собой без-
мен (Петряшин 2019: 26). С его помощью оценивалось количество сделанной
за осень пряжи и лаптей. Если обход выявлял недостаток трудолюбия, то вино-
вным грозили безменом или даже били им. В таких обрядах безмен выступал
символом справедливости и оружием воздаяния за грехи, устрашал людей и
примирял их с наказанием.
Наконец, как и все “старые” вещи, безмен может выступать “памятным”,
эвокативным предметом. В 2019 г. Российскому этнографическому музею был
передан в дар один безмен. Для владелицы предмет был практически семейной
реликвией, значение которой, однако, поколение ее детей и внуков уже не могло
оценить по достоинству. Безмен принадлежал ее бабушке и сопровождал семью
при переезде из деревни в город, использовался при продаже ягод и грибов во
время Великой Отечественной войны, оставался востребованным инструмен-
том в хозяйстве вплоть до смерти бабушки в 1970-е годы. Можно сказать, что
“отделяемая” часть личности, агентность, как бабушки владелицы, так и ее са-
мой оказалась в музее вместе с подаренным безменом и определяет в какой-то
мере его идентичность.
Приведенный анализ когнитивных функций безмена позволяет говорить об
эвристичности представленной в статье Соколовского типологии артефактов и
ее полезности для изучения отдельных вещей. Обращение к антропологиче-
ским концепциям распределенной личности, однако, позволит дополнить и раз-
вить философско-психологические подходы, в которых не в фокусе внимания,
например, экономическая проблематика, искусство и вопрос социокультурных
вариаций. Так, важным представляется изучение не только отдельных предме-
тов, но и комплексов вещей в их ситуативных взаимодействиях, что и предпо-
лагает концепция экологических ниш. В этом разрезе идеи Гелла о комплексах
предметов как воплощенном мышлении могут быть плодотворными.
В заключение хочется вернуться к теме музея, так как в контексте настоящей
дискуссии этот институт особенно интересен. Во многих собраниях хранят-
ся комплексы вещей, которые ранее составляли когнитивную и аффективную
ниши человека. В случае этнографического, антропологического, историческо-
го или мемориального музея это может быть, например, обстановка жилища
или интерьер квартиры. Также и любое частное собрание после перемещения в
музей продолжает нести на себе отпечаток личности коллекционера. Вместе с
92
Этнографическое обозрение № 5, 2022
тем коллекции становятся когнитивной и аффективной нишами их ответствен-
ного хранителя. Но сущность музея в том, что сколько бы люди ни инвестиро-
вали свои личности в артефакт, он так или иначе обретает публичный статус и
новые функции в экспозиции: овеществленные индивидуальные идентичности
превращаются в материальные основания идентичностей коллективных и при-
обретают общественное значение.
Примечания
1 Выделение трех имен среди прочих исследователей материальной культу-
ры того времени обусловлено соображениями объема, моими интересами и не
претендует на строгую объективность.
ОТ СЛАБОЙ К СИЛЬНОЙ ВЕРСИИ ЭКСТЕРНАЛИЗМА
А.А. Филатова
В своей статье “Вещи, аффекты и экология разума: о материальных аспектах
политики идентичности” Сергей Валерьевич Соколовский предлагает концепту-
альный анализ одной из наиболее перспективных междисциплинарных областей
исследований, которая прослеживает гетерогенную сеть, состоящую из феноме-
нов сознания, человеческой телесности, социальных институтов и мира мате-
риальных артефактов. Теоретические штудии, представленные в работе, имеют
обозримую перспективу перерасти в прикладную исследовательскую програм-
му, в том числе в культурной антропологии. Повышенный интерес к концепциям
“телесно-воплощенного познания”, “телесно-воплощенных эмоций”, “расши-
ренных эмоций”, “распределенных способностей”, “когнитивно-аффективной
экологии” сопровождается подчас иллюзией теоретического и методологическо-
го единства, характерного для группы родственных идей. Развеять эту иллюзию
может критический взгляд, делающий очевидными принципиальные отличия,
свойственные отдельным представителям “семейства”. Именно на этих теоре-
тических нюансах, а также на критических аргументах, которые продолжают
поступать “извне”, я хотела бы остановиться подробнее, продолжая и конкре-
тизируя ту работу, которую проделал в своей статье Соколовский. Такого рода
практика безусловно нужна для выработки отрицательной эвристики исследова-
тельской программы, она способствует формированию рефлексивной установ-
ки, требуемой для обеспечения жизнеспособности и дальнейшей продуктивной
деятельности в этом проблемном поле.
Для понимания сущностного содержания группы приведенных выше ги-
потез целесообразно пойти “негативным путем”, т.е. обозначить те теоретиче-
ские позиции, альтернативой которым выступает экстерналистская установка.
Достаточно условно эти тезисы можно сформулировать следующим образом:
1) когнитивное и аффективное функционирование невозможно помыслить ина-
че как ограниченным рамками субъекта; 2) объекты окружающего мира вы-
ступают исключительно как физические сущности, которым нельзя атрибути-
ровать никаких ментальных качеств и свойств; 3) взаимная каузальная связь
между res cogitans и res extensa невозможна.
Первый тезис можно трактовать как радикальный интернализм, который
в действительности имеет несколько принципиально различных, более того,
конфликтующих друг с другом, трактовок. Церебральный интернализм, в част-
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
93
ности, предполагает, что ментальный и аффективный опыт непосредственно
связан с функционированием человеческого мозга (нейроцентризм) и не мо-
жет быть от него отчужден. В феноменологической перспективе интернализм
представлен скорее концептом чистого сознания (трансцендентального Я),
с присущими ему квалитативностью, приватностью и феноменальностью. Эти
качества индивидуального сознания конституируют позицию первого лица,
обеспечивающую привилегированный доступ к ментальному опыту.
Второй тезис предлагает нам либо вариант грубого позитивистского матери-
ализма, который сводит все виды объектов исключительно к физическим сущ-
ностям, либо более современный вариант спекулятивного реализма, который
не редуцирует объекты, но выдвигает антикорреляционистскую программу, на
мой взгляд, сложно совместимую с когнитивным экстернализмом.
Относительно третьего тезиса можно предположить, что картезианский
параллелизм - это, пожалуй, практически единственный вариант, который
принципиально не допускает обоюдной причинной связи между протяженной
и мыслящей субстанциями. В наши дни такие теории скорее остаются на пе-
риферии доминирующей повестки. Чаще встречаются теории, утверждающие
одностороннюю каузацию. Примером могут служить некоторые физикалист-
ские направления в философии сознания, доказывающие, что каузальная связь
возможна, но только в одностороннем порядке: мозг оказывает воздействие на
ментальные состояния, но не наоборот.
Большинство современных концепций, активно разрабатываемых в фило-
софии сознания, когнитивной психологии, нейрофизиологии, антропологии,
культурно-исторической психологии, когнитивной социологии культуры, все
же принципиально далеки от декартовского психофизиологического дуализма.
Они предлагают модели, скорее призванные обосновывать взаимосвязь когни-
тивно-аффективной системы и материальной среды, с которой человек взаи-
модействует. Теоретические решения, которые предлагаются, варьируются в
весьма широком концептуальном диапазоне. Для того чтобы в этом многооб-
разии подходов теория когнитивно-аффективного расширения зазвучала как
действительно нетривиальное решение, стоит отделить ее от множества других
концепций, которые занимают скорее умеренные и более консервативные пози-
ции в вопросе о природе человеческого познания. Целесообразно в связи с этим
выделить слабую и сильную версии экстернализма.
Слабая версия широко представлена в семантическом экстернализме, энак-
тивистской феноменологии, теориях телесно-воплощенного разума и теле-
сно-воплощенных эмоций, а также в ситуационистском тезисе в психологии.
Общей чертой всех этих концепций выступает логическая совместимость
с умеренным интернализмом. В философии сознания слабую версию можно
продемонстрировать на примере семантического экстернализма Х. Патнэма.
Семантический экстернализм предполагает, что значение может быть изме-
нено случайными факторами внешней среды, оно не является исключительно
психологическим феноменом. В своем известном мыслительном эксперименте
Х. Патнэм предлагает представить две полностью идентичные Земли, различие
между ними состоит только в том, что на одной есть вода, соответствующая из-
вестной формуле H2O, а на второй вместо воды - некая XYZ-жидкость с иным
химическим составом. Обе субстанции на планетах-близнецах обозначаются
одним и тем же словом. Х. Патнэм показывает, что содержание ментальных
состояний будет при этом разным у двух идентичных людей на этих двух пла-
нетах, несмотря на полную тождественность их психических функций и состо-
яний (Putnam 1973). Данный эксперимент призван подкрепить тезис о том, что
смыслы, в плане их содержания, находятся не только в нашей голове. Однако
94
Этнографическое обозрение № 5, 2022
семантический экстернализм ничего подобного не утверждает относительно
природы самих ментальных состояний, которые остаются внутренними пси-
хологическими феноменами, что вполне совместимо с общей интерналисткой
установкой.
Критическое переосмысление церебрального интернализма, сводящего
когнитивно-аффективную деятельность субъекта к функционированию моз-
га, наметилось в междисциплинарной исследовательской программе, направ-
ленной на изучение концепций телесно-воплощенного познания и телесно-
воплощенных эмоций. Задача данных подходов - подтвердить, что человече-
ское тело является столь же активным участником познания и эмоционального
переживания, как и мозг. В частности, авторы теории телесно-воплощенных
эмоций указывают на роль перцептивной, моторной, вегетативной и соматовис-
церальной систем, делающих возможным переживание эмоций. Отказываясь
от нейроцентрической парадигмы, концепции телесно-воплощенного познания
продолжают иметь дело с биологическими компонентами, принадлежащими
эмпирическому индивиду, тем самым принципиально не выходят из субъек-
тивистской модели. В феноменологической традиции развитие идеи телесно-
воплощенного сознания связано с поиском приемлемых вариантов совмещения
данных современных нейро- и когнитивных дисциплин с феноменологической
методологией (Varela et al. 1991). Таким образом, сегодня некоторые феноме-
нологи совершают табуированную в классической гуссерлианской философии
процедуру интеграции феноменалистической и натуралистической установок,
позиций первого и третьего лица (Гаспарян 2020). В традиционной феноме-
нологии трансцендентальное Я отвечает за синтез разрозненных пережива-
ний, придавая тем самым целостность переживаемому опыту. Начиная с работ
М. Мерло-Понти, в феноменологии возникла идея о конститутивной роли
тела в организации опыта, организм человека стал мыслиться как место
трансцендентально-телесного синтеза апперцепции. Нейрофеноменология
Ф. Варелы и феноменологический энактивизм Ш. Галлагера представляют со-
бой наиболее известные варианты концептуального решения проблемы мен-
тального редукционизма через развитие теорий телесно-воплощенного со-
знания, в которых самость становится физической субъективностью. Однако
расширение сознания на внешние объекты и среду этими теориями также не
предполагается.
Схожую позицию можно обнаружить в рамках ситуационистского подхода
в психологии. Указывая на связь познания и аффектов с биологическими, со-
циальными, материальными структурами, которыми агенты активно манипу-
лируют, чтобы стимулировать мышление, снижать когнитивную нагрузку, бо-
лее эффективно адаптироваться, координировать совместные действия и т.п.,
представители ситуационизма все же не характеризуют окружающую среду
как конститутивную часть самих когнитивных или эмоциональных процессов
(Kruege, Szanto 2016). Есть принципиальная разница между утверждением о
том, что фотографии родных людей, книги, свечи и другие артефакты домаш-
него мира могут вызывать стабильные эмоции, иногда схожие у членов одной
семьи, и тезисом о том, что книги, свечи или картины являются конститутивной
частью самой эмоции или что супруги, просматривая совместные фотографии,
“разделяют” одну эмоцию, например, радость, являясь только элементами этой
онтологически автономной сущности (León et al. 2017).
Принципиальный разрыв с интернализмом возможен при условии форму-
лирования более “радикальных” тезисов в поддержку экстернализма. Сильная
версия экстернализма представлена в гипотезе расширенного разума (Extended
Mind), допускающей идею о том, что внешние артефакты можно считать эле-
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
95
ментами когнитивной системы, концепции, рассматривающей расширение эмо-
ций на артефакты материальной культуры (Environmentally Extended Emotion
Thesis), и теории, исследующей возможность расширения эмоций на других
людей (Socially Extended Emotion Thesis).
Наиболее ранней и известной версией активного экстернализма является
гипотеза расширенного сознания Э. Кларка и Д. Чалмерса (Clark, Chalmers
2010). Она опирается на принцип соответствия, утверждающий структурное
сходство внутренних и внешних когнитивных процессов. В частности, запоми-
нание, которое осуществляется благодаря биологическим механизмам, можно
сопоставить с артефактами (напр., записной книжкой), которые выполняют ту
же функцию, что и биологическая материя. Следовательно, такого рода арте-
факты (компьютеры, смартфоны, калькуляторы и т.п.) можно считать конститу-
тивной частью когнитивного процесса запоминания. Концепция расширенного
сознания многократно подвергалась критике за игнорирование принципиаль-
ных различий в организации внутренних и внешних когнитивных процессов.
Например, в отличие от биологической памяти, память компьютера может быть
переформатирована, она является относительно постоянной, имеет практиче-
ски неограниченный объем и т.п. Другая линия критики указывает на то, что
признание каузального воздействия внешних объектов на когнитивные процес-
сы не означает конституирования их данными артефактами. Очки улучшают
зрительное восприятие, но не являются при этом частью самого зрительного
восприятия. Для обоснования гипотезы активного экстернализма необходи-
мо доказать, что внешние объекты не просто участвуют в реализации какого-
либо процесса, но что без них такой процесс невозможен либо что артефакты
способны формировать новые типы психических функций. Например, в куль-
турно-исторической психологии Л.С. Выготского знаковые системы являются
необходимыми элементами развития мышления (Иванов 2019).
Теории аффективно-когнитивного расширения второй волны сконцентриро-
вали внимание не на принципе соответствия, а на принципе взаимодополняе-
мости органических и внеорганических механизмов познания и на динамике их
взаимодействия. Стало очевидно, что разные виды ресурсов в материальном и
культурном мирах обладают различными свойствами, форматами и функциями,
поэтому процесс расширения будет предполагать разный уровень интеграции и
вовлечения (Menary 2010). Третья волна еще сильнее расширила контекст, начав
рассматривать сложные социальные и культурные системы в качестве когни-
тивных акторов, окончательно отказавшись от индивидуалистической трактов-
ки познающего субъекта (Kirchhoff 2012). Познание при такой интерпретации
стало пониматься как социально-культурная деятельность, распределенная по
социальным группам, когнитивным инструментам и стандартным практикам.
Динамика, которая наблюдается в развитии гипотезы расширенного позна-
ния, является очевидным свидетельством того, что сама концепция обладает
огромным эпистемологическим потенциалом. При этом важнейшей задачей для
всех вариантов теорий аффективно-когнитивного расширения является попыт-
ка показать, что внешние объекты не просто влияют, но создают спаренную
систему с когнитивными и аффективными процессами. К объектам, способным
стать частью когнитивной системы, предъявляется следующее необходимое
условие: их удаление из системы должно вести к исчезновению самого пси-
хического процесса. Таким образом, внешние объекты могут рассматриваться
как активные акторы когнитивного процесса, когда они оказывают каузальное
воздействие на психологический аппарат, интегрированы и работают с организ-
мом как одно целое, реализуют новые функции, которые были бы невозможны
без их участия.
96
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Раскрытие перспективы применения теории расширенного познания и рас-
ширенных эмоций в антропологии, которую предлагает Соколовский, представ-
ляется, на мой взгляд, весьма перспективной задачей. Но остается целый спектр
фундаментальных вопросов, которые придется обсудить до того, как гипотеза
расширения трансформируется в прикладную исследовательскую программу.
К таким вопросам я бы отнесла: онтологию объектов, которые становятся ком-
понентами расширенного сознания, их автономию, интенциональность, агент-
ность; возможную критику антропоцентричного взгляда на мир объектов, за-
ложенного в данной концепции; а также возможность неантропоцентричной
таксономии артефактов в рамках теории экологических ниш.
ПРОЦЕССУАЛИСТСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ЭКОЛОГИЮ ПАМЯТИ
С.Ю. Шевченко
Сергей Валерьевич Соколовский определяет цель своей статьи как “привле-
чение внимания исследователей… к концепциям распределенных способностей
(главным образом когнитивных и аффективных), их экологии… и, - главное -
к их очевидно недостаточно исследованным связям с политикой идентично-
сти”. Поскольку и поставленные задачи, и выполняющий их текст читаются как
программные, возьму на себя смелость, оттолкнувшись от изложенного в ста-
тье, дополнить программу исследований экологии памяти. Ниже я постараюсь
обозначить ее процессуальный поворот, ориентированный на то, как реализу-
ется политика идентичности через взаимодействие с различного рода вещами.
Признавая, что когнитивные операции в значительной степени осуществляются
за пределами черепной коробки и человеческого тела, я бы хотел обратить вни-
мание на то, как возникают и протекают распределенные когнитивные процес-
сы, т.е. пойти дальше тезиса о расширенном разуме (extended mind, extended
cognition), фокусируясь на познании, включенном в деятельность (enacted
cognition).
Соколовский рассматривает в основном уже одомашненные вещи: “предме-
ты мебели, картины и рисунки, статуэтки и скульптуры, фотографии, коллек-
ционные предметы”. Даже будучи изначально чужими, они легко могут встро-
иться в мой быт, в мою экологическую нишу, которая в статье характеризуется
как “обжитое пространство”. Восприятие экологической ниши как уже суще-
ствующей, взаимного расположения вещей как уже установленного оставляет
за пределами рассмотрения важную (и, как мне кажется, крайне интересную)
часть когнитивной экологии.
Развивая идеи философа Ричарда Хеерсминка и представительницы STS
Шерри Тёркл, Соколовский особенно пристально рассматривает эвокатив-
ные объекты. В общем смысле это объекты, которые трогают человека или
вызывают сильные чувства. Классическим литературным примером такого
рода объектов стало печенье Мадлен, вкус которого вызывал у героя Марселя
Пруста воспоминания о детстве (Пруст 1999). Это печенье прочно вписано
в существующие культурные практики: мы знаем, что нужно для его приго-
товления, герой Пруста по укорененной с детства привычке размачивает его
кусочек в чашке чая и т.д. Но не всякое сильное чувство связано с воспроизве-
дением уже пережитого. В контексте осуществления политики идентичности
память нередко выступает сферой конструирования еще или уже незнакомого.
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
97
Так упомянутый в эпиграфе рассматриваемой статьи Чичиков конструирует
образ Собакевича из предметов незнакомой ему обстановки. А гораздо более
радикальным примером эвокативного объекта, запускающего процесс кон-
струирования еще незнакомого, могут служить сепульки, фигурирующие в
романах Станислава Лема. Как известно,
СЕПУЛЬКИ - важный элемент цивилизации ардритов… с планеты Энтеропия… (см.).
См. СЕПУЛЬКАРИИ…
СЕПУЛЬКАРИИ - устройства для сепуления (см.)
СЕПУЛЕНИЕ - занятие ардритов… с планеты Энтеропия… См. СЕПУЛЬКИ (Лем 2009).
Слово “сепульки”, изначально придуманное как термин, чье значение оста-
ется недоступным читателю, само стало эвокативным объектом, который на-
поминает о произведениях Лема, о временах пика его популярности. А кроме
того, оно преследовало самого Лема в вопросах журналистов и поклонников.
Другой пример эвокативного функционирования объектов, не предполагаю-
щего воспроизведения уже пережитого, - вопросы о приспособлениях в игре
“Что? Где? Когда?”. Как правило, игрокам предлагается раскрыть предназна-
чение предъявленного им приспособления, исторический или культурный кон-
текст использования которого известен. То есть команде необходимо за минуту
осуществить археологическую реконструкцию незнакомой им практики, ориен-
тируюсь на ее материальный фрагмент. Интерес зрителей при этом может быть
связан не только с самим вопросом, но и с тем, как знатоки, принадлежащие к
определенной культурной общности (обладающие сходной со зрителями куль-
турной идентичностью), выходят за ее пределы. Позиция игроков в этом случае
до определенной степени схожа с позицией антрополога, занятого истолковани-
ем чужого для него культурного сообщества. При этом, если Грегори Бейтсон,
упомянутый Соколовским как создатель экологии памяти, пишет, что метод яв-
ляется медиумом между исследователем и культурным сообществом (Бейтсон
2005: 169), то в игровой ситуации таким овеществленным медиумом оказыва-
ется приспособление, о котором задается вопрос.
Использованную выше метафору археологической реконструкции я вслед
за Мишелем Фуко предлагаю истолковать предельно широко: как операцию
по сборке системы функционирования культуры на основании небольших ма-
териальных фрагментов. Так, исходя из линеевского подхода к классифика-
ции, Фуко реконструирует систему знания определенной эпохи (Фуко 1977).
Точно такой же реконструкцией в своей профессиональной деятельности заня-
ты и палеонтологи, и историки вообще. Но процесс помещения истории про-
шлого или будущего в контекст настоящего не ограничивается работой про-
фессионалов. Неодомашненные предметы прошлого нередко становятся более
мощными эвокативными объектами, чем артефакты, предназначение которых
понятно. Предположу, что понятность, ясность значения артефакта, привычка к
нему до определенной степени противостоят его эвокативным функциям.
Образ мамонта - животного, с которым мы знакомы только благодаря ко-
стям и картинкам в учебнике истории - в поэзии Велимира Хлебникова при-
зван пробуждать воспоминание о незнакомом, непрожитом прошлом. Поэт
обращается именно к трупу мамонта, как к неодомашненной вещи из прошло-
го, которая призвана пробудить предчувствие грядущих угроз - связанных, по
мнению исследователей творчества Хлебникова, со сложившимся у него ощу-
щением приближения мировой войны (Тузова 2008). Он пишет стихотворение
“К трупу мамонта” (1911), изображая в нем гибель животного, что, вероятно,
может намекать и на масштабность военной техники, ее силу, намного пре-
вышающую человеческую, и одновременно на ее уязвимость и конечность во
98
Этнографическое обозрение № 5, 2022
времени. Упоминание вымерших представителей мегафауны может намекать
и на то, что аффективные реакции и формы совместной деятельности родом
из плейстоцена. В таком ракурсе экологическая ниша, в которой происходила
эволюция человека, сама производит его идентичность через обращение к кол-
лективной памяти.
Американский антрополог Пол Шепард видел источник социальных и эко-
логических проблем именно в несоответствии современных культурных прак-
тик и плейстоценовых черт когнитивной экологии человека (Shepard 2013).
Его достаточно радикальные концепции возврата к примитивным хозяйствен-
ным практикам, сформулированные уже в конце жизни, служат продолжением
ранних исследований о роли ландшафта в формировании когнитивных особен-
ностей человека. Эти изыскания начались с опубликованной в 1967 г. книги,
которую, используя терминологию, предложенную Соколовским, можно счесть
посвященной аффективным атмосферам и способам их передачи в европейском
и американском искусстве XV-XX вв. (Shepard 2002). То есть от вопроса о том,
как окружающие человека предметы искусства задают его идентичность как
индивида, Шепард переходит к экологическому взгляду на то, как эволюционно
формируются когнитивные черты человека как вида.
По Шепарду, человек оказался цивилизован, но не одомашнен, сохранив
внутри дикие черты плейстоценовых охотников: тягу к отрытым простран-
ствам, общению в малых группах и т.д. (Shepard 2011). Разумеется, руссоист-
ский пафос его работ (Cahoone 2006) и его роль в развитии глубинной экологии
в нашем случае можно оставить в стороне. Идеи Шепарда интересны, так как
указывают на то, что когнитивная экология не ограничивается исследованием
уже обустроенного жилища - идентичность индустриального туриста может
в большей степени конструироваться посещением заброшенных заводов, чем
взаимным расположением артефактов в жилой и уже обжитой комнате.
Обрисовав в общих чертах траекторию процессуального поворота в иссле-
дованиях экологии памяти, стоит коротко остановиться на методологических
проблемах его осуществления, а затем кратко наметить возможные направле-
ния эмпирических исследований в этой сфере. Статья Соколовского не случайно
ограничивается индивидуальной политикой идентичности и статичным видени-
ем экологии памяти. Предлагая новый для отечественной гуманитаристики век-
тор развития, лучше обозначить максимально конкретно проблему, объект ис-
следования и используемые подходы. Однако именно функционализм позволяет
мыслить страдающего деменцией человека и его записную книжку как единую
когнитивную систему (Clark, Chalmers 1998). Не имеет значения, что блокнот не
является субстратом, проводящим нервные импульсы. Тем не менее функциона-
листский взгляд на отношения человека и записной книжки влечет за собой про-
цессуалистский взгляд на идентичность этой системы. Говоря о расширенном
разуме, мы сталкиваемся и с вопросом, как он расширяется. Джон Дюпре, бри-
танский философ биологии и основоположник процессуализма, приводит три
довода в пользу динамического взгляда на идентичность живых существ (Dupré
2020, 1998). Дюпре пишет о биологических качествах, но его аргументы легко
могут быть переведены в сферу когнитивной экологии. Тем более что процес-
суализм, в нашем случае приближающийся к функционализму, позволяет легко
избегать противопоставления природного и социального (или символического)
(Hertz et al. 2020). Итак, живое существо - это процесс. Во-первых, потому, что
оно включено в динамику симбиотических отношений - со своим микробио-
мом или с записной книжкой. Во-вторых, для него характерно наличие жиз-
ненных циклов - как минимум страницы блокнота рано или поздно закончатся.
В-третьих, оно предпринимает действия, направленные на противостояние эн-
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
99
тропии. Франсиско Варела, упомянутый в статье Соколовского идеолог вопло-
щенного интеллекта, считал, что идентичность и целостность организма посто-
янно воспроизводятся и поддерживаются, а не просто существуют как данность
(Varela 1979). Для экологии памяти все эти три фактора - наличие жизненных
циклов, антиэнтропийность и включенность в симбиоз - являются также тре-
мя основными характеристиками когнитивной динамики. Процессуалистский
взгляд более экологичен, но он же сталкивает нас с трудностью, о которой упо-
минает и Дюпре: исследователю очень сложно различить, где кончается один
процесс и начинается другой, сложно выделить отдельный процесс из общего
потока изменений (Dupré 2020). В этой связи можно различать вопросы о том,
как индивид выстраивает свою когнитивную нишу (зачем Хлебникову мамонт?),
и о том, как когнитивная среда делает возможным такое выстраивание (благода-
ря чему плейстоценовая мегафауна и плейстоценовый образ жизни имеют значе-
ние?). Выходя за пределы статичного взгляда на экологию памяти, мы выходим
и за пределы индивидуального, поскольку начинаем иметь дело с коллективным,
институциональным и видовым.
Тем не менее процессуальный подход к экологии памяти делает видимыми
практики конструирования и использования эвокативных объектов. А значит,
более доступными для исследования оказываются и общие черты этих объек-
тов, формы их упорядочивания и в конечном счете их имплицитная норматив-
ность. Более различимыми становятся вписанные в практики иерархии чело-
веческих и не-человеческих акторов. Их сравнение может помочь подобрать
благоприятную когнитивную среду для обучения взаимодействию с этими
акторами: от микробов (Cañada et al. 2022) до партнеров по онлайн-комму-
никации (Marin 2022). Такого рода исследования вполне могут стать эмпири-
ческой основой формирующейся сейчас энактивистской этики - программы
изучения нормативных измерений распределенной когнитивной деятельности
(Dierckxsens 2022). В качестве фронтиров развития экологии памяти можно
наметить и проблему становления био- и нейроэтической нормативности. На-
пример, этические нормы взаимодействия врача и пациента сопроизводились
вместе с материальной средой, когнитивной нишей врачебной деятельности,
переживавшей “экологические катастрофы” (Попова 2021). С другой стороны,
технические устройства, предназначенные для когнитивного улучшения, сами
могут быть центральными элементами политики идентичности (Петров 2022).
“ЧЕЛОВЕК-В-ЕГО-СРЕДЕ”
КАК ПРЕДМЕТ ХОЛИСТСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
С.В. Соколовский
Прежде всего хочу поблагодарить всех участников дискуссии, мнения ко-
торых тем более важны, что их собственные исследования лежат в русле об-
суждаемой тематики. Их реплики удачно дополняют некоторые сюжеты ста-
тьи (напр., я практически не касался энактивистского подхода, который, на мой
взгляд, лежит несколько в стороне от обсуждаемой проблематики, поскольку
по существу ограничивается разработкой концепции воплощенного сознания в
контексте сенсомоторного действия1). Я попытаюсь воспользоваться некоторы-
ми из приводимых участниками обсуждения утверждений для того, чтобы уточ-
нить отдельные положения статьи, но в первую очередь ее контекст и замысел.
Отведенный для ответа объем позволяет остановиться лишь на соображениях
100
Этнографическое обозрение № 5, 2022
самого общего характера, что, конечно, несправедливо в отношении глубоких и
заслуживающих значительно большего внимания суждений авторов публикуе-
мых комментариев. Остается надеяться, что это не единственная возможность
для дальнейших дискуссий и сотрудничества.
Сравнение и столкновение различных подходов и дисциплин часто оказыва-
ется продуктивным, и то обстоятельство, что в ответной реплике я ориентиру-
юсь прежде всего на сообщество антропологов, надеюсь, не слишком помешает
разговору поверх дисциплинарных границ. Материальный поворот, развора-
чивающийся в течение нескольких последних десятилетий в философии и со-
циальных науках, меняя представления о вещах, исподволь трансформирует и
представления о самом человеке, его телесности и сознании. Изменение этих
представлений с необходимостью влечет за собой переосмысление множества
концепций, затрагивающее практически все ветви и области антропологическо-
го знания. В этой статье я попытался объединить несколько подходов, имею-
щих, с моей точки зрения, прорывной характер для антропоэкологии и иссле-
дований идентичности, поскольку первая до сих пор по инерции мыслится как
исключительно биологическая дисциплина, а вторые часто игнорируют мате-
риальную инфраструктуру, обеспечивающую многообразные процессы иденти-
фикации на индивидуальном и групповом уровнях. Оба недостатка имеют один
исток - невнимание к среде, создаваемой самим человеком, и ее активной роли
в продолжающейся коэволюции человека и его многообразных экстенсий, сово-
купность которых мы привыкли именовать культурой, но эту же совокупность
можно рассматривать и как техносреду, и как систему жизнеобеспечения. На-
званные три взгляда на создаваемую человеком среду свидетельствуют о том,
что теория культуры, теория техники и экологическая теория имеют обширную
область пересечения, которая может и должна стать основой нового междис-
циплинарного синтеза в науках о человеке. Впрочем, эту среду не обязательно
рассматривать как искусственную, противополагая ее естественной. Основани-
ем для снятия или смягчения этого противопоставления является установлен-
ный еще Якобом фон Юкскюлем факт создания собственной среды (Umwelt’a)
практически любыми организмами.
Функциональная интеграция любого организма со средой (а в рассматри-
ваемой здесь тематике - степень аффективно-когнитивной гибридизации с ее
элементами) оказывается настолько интенсивной, что Грегори Бейтсон предло-
жил считать фундаментальной единицей отбора и эволюции не организмы или
популяции, но интегративные целостности “организм + среда”.
Прежняя единица отбора была отчасти скорректирована генетиками-популяционистами,
указавшими на неоднородность популяции. <…> Иными словами, в единицу отбора уже
встроена возможность изменении. <…> Сегодня необходима дальнейшая корректировка:
наравне с гибким организмом мы должны включить в эту единицу гибкую среду, посколь-
ку, как я уже говорил, организм, разрушая среду, разрушает себя. Единицей выживания
является организм-в-его-среде [organism-in-its-environment] (Bateson 1972: 319-320).
Однако как именно происходит отбор и эволюция таких целостностей?
Очевидно, что, если мы сохраняем идею отбора как отбраковки нежизнеспо-
собных особей и передачу полезной информации от более приспособленных
для выживания следующим поколениям, нам необходимо представить, каким
образом такой отбор действует не на уровнях генов, геномов или популяций,
а на уровнях соответствующих комплексов, включающих значимые интегра-
тивные связи со средами этих базовых элементов. До сих пор, спустя более
полувека как Бейтсон предложил рассматривать среду, а точнее экологиче-
ские ниши, в качестве неотъемлемых составляющих эволюционного процес-
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
101
са, они продолжают трактоваться скорее как вместилища или простые наборы
факторов, способствующих или препятствующих процветанию/вымиранию
вида, но не как функциональные части, образующие вместе с организмами
фундамент этого процесса. В результате мы имеем параллельные ряды наблю-
дений за эволюцией видов и эволюцией сред (экониш) и у нас до сих пор нет
понятийного инструментария для целостного и связного описания эволюци-
онного процесса в терминах единиц, охватывающих и организмы или их сово-
купности, и экониши. Применительно к человеку проявления или результаты
действия такого рода целостностей на уровне индивида выражаются поняти-
ями киборг, техноморфа или техносимбионт, где само наделенное разумом
тело мыслится как продукт техногенеза и постоянного взаимодействия с тех-
носредой. В рамках исследования нашего отношения к вещам такой подход
неизбежно оборачивается исследованием отношения к другому Себе: матери-
альным экстенсиям Я, моего сознания и собственного тела, так наз. распреде-
ленного Я. Энди Кларк сформулировал эту идею несколько иначе, предложив
формулу “естественно рожденных киборгов”. Утрату лэптопа он сравнил по
силе своего воздействия с потребовавшей длительной реабилитации мозговой
травмой (Clark 2003: 4).
С попытками менее масштабных (нежели вкратце охарактеризованный
выше) синтезов, ограниченных рамками своих дисциплинарных предметов, мы
сталкиваемся в экологии (напр., в связи с исследованием сукцессий), в ботани-
ке, в частности фитосоциологии, - в исследованиях взаимоотношений расти-
тельных видов в сообществах, в экономике с ее законами развития формаций,
в историографии с ее попытками установления исторических закономерностей
и выявления принципов философии истории. Прочитанные через призму ак-
торно-сетевых отношений эти синтетические описания (остающиеся, впрочем,
редукционистскими; в случаях экономики и истории этот редукционизм высту-
пает в форме антропоцентризма) представляют собой важные этапы на пути
к холистскому описанию эволюции живых систем (частным случаем которых
оказывается эволюция человека) вкупе с трансформацией их сред и инфра-
структур.
Отсутствие готовых понятийных средств для нередукционистского описа-
ния взаимодействия человека с ближней средой не позволило мне с должной
степенью ясности применить программные установки пропагандируемого в
статье подхода, в котором помимо холизма, или антиредукционизма, должен ре-
ализоваться принцип динамического рассмотрения взаимодействия человека с
вещами. Преодолеть аналитизм научного подхода и качнуть весы в сторону це-
лого, а не его частей оказалось для имеющегося в моем распоряжении инстру-
ментария задачей со многими неизвестными, точнее, со многими “нехватками”.
Одно из решений определения границ таких динамических целостностей (по-
мимо дивидуумов Мэрилин Стратерн) предлагает Бейтсон в своих наблюдениях
о кибернетических контурах. В частности, он пишет:
Я полагаю, что очерчивание границ индивидуального разума всегда должно зависеть
от того феномена, который мы хотим понять или объяснить. Очевидно, что существу-
ет множество контуров движения сообщении за пределами нашей кожи, и эти контуры
и переносимые ими сообщения должны считаться частью ментальной системы всегда,
когда этого требует суть дела. <…> При рассмотрении единицы эволюции я утверждал,
что на каждой ступени обязательно нужно включать завершенные контуры вне прото-
плазмического агрегата, будь то “ДНК в клетке”, или “клетка в теле”, или “тело в окру-
жающей среде” (курсив мой. - С.С.) (Бейтсон 2000: 423-425).
Этот методологический принцип является ключом к пониманию подвижно-
сти границ наблюдаемых сетей, будь то распределенное Я или распределенные
102
Этнографическое обозрение № 5, 2022
тело, сознание, память, аффект и т.д. Бейтсон на примере слепого и его трости
описывает работу информационного контура, включая в качестве его части по-
мимо этих двух элементов еще и улицу, по которой идет слепой.
Каким, однако, образом идеи Бейтсона относительно определения границ
целостностей с учетом кибернетических контуров могут применяться в области
экологии способностей человека и, в частности, экологии аффекта? Как здесь
может работать концептуализация распределенных эмоций в терминах их ми-
крониш? Бейтсон сообщает, что существует две экологии, не вполне гармонич-
но сочетающиеся друг с другом. Одна из них фокусируется на балансе энергии
(ее основные понятия: ресурсы, продуценты и консументы), другая на балансе
энтропии/негэнтропии (ее основные понятия: уровни сложности в организации
живых существ, их иерархия на основе различий). Контуры, в рамках которых
происходит обмен энергией, не совпадают с контурами, по которым циркули-
руют различия (информация). Или, пользуясь терминологией гностиков, о ко-
торой вспоминает Бейтсон в связи с одной из работ Юнга, мир плеромы имеет
иные законы, нежели мир креатуры.
Одним из ключей для прочтения комментариев может стать напряжение
между полюсами редукции и ирредукции. Например, теория взгляда как воз-
можный способ тематизации области “пересечения антропоэкологии, идеи
распределенного сознания, онтологии артефакта, феноменологии конституиро-
вания мыслечувственного” (см. комментарий А. Верле) может прочитываться
и как редукция к визуальности, этому доминирующему модусу восприятия в
культуре модерна, и как универсализация визуального в качестве доступа к миру
(другие возможные кандидаты в зависимости от избранной онтологии - созна-
ние, интеллект, язык, телесность, тактильность). Аналогично “переглядывание
вещей друг с другом” может редуцироваться к механизму психологической про-
екции либо приравниваться жесту, противостоящему “расколдовыванию мира”,
т.е. возврату к его полноте. Предпринятая Артемом Верле реконструкция объ-
ема понятия “взгляд”, во всей его феноменологической сложности, выступает
как жест, сопротивляющийся редукции визуальности, а намеченные им направ-
ления исследований онтологии артефакта и антропологии идентичности, безус-
ловно, заслуживают внимания.
Этическая ангажированность конкурирующих концепций в проблематике
распределенного сознания очевидна. Выбор их осложняется тем обстоятель-
ством, что эти различающиеся иногда деталями, но чаще положенными в их
основу онтологическими принципами концепции оказываются даже логически
плохо совместимыми. Проблематизирование “готовности принимать на себя
идентичность” само оказывается частью неолиберальной программы: напри-
мер, инклюзивный 4EA-подход отсылает среди прочего и к значимой роли кон-
текста для сознания или актуализирующегося в действии Я. Однако тот, кто
создает этот контекст, формирует и один из определяющих факторов этого со-
знания. Игнорирование данного обстоятельства делает Я заложником навязан-
ного контекста (игнорирование, как и недоучет “чужой” политики идентично-
сти, не позволяет сформировать контрстратегию, превращая Я в марионетку
воли Другого). Иными словами, “не принимать на себя идентичность” может
быть замечательным достижением просветленного сознания, в отношении ко-
торого, однако, трудно приложить атрибут “embedded”. В данном контексте “со-
стязание сил” акторно-сетевого подхода, как представляется, лучше описывает
конфигурацию позиций, нежели выбор синтетического, но полного внутренних
противоречий и разногласий подхода.
Станислав Петряшин отмечает потенциал концепций распределенного со-
знания для исследований материальной культуры, называя в качестве инициа-
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
103
торов их пересмотра Дэниела Миллера, Мэрилин Стратерн и Альфреда Гелла.
Безусловной заслугой первого является привлечение внимания к эмоциональ-
ной связи людей и их предметного окружения, однако в остальном, я считаю,
его позиция не выходит за пределы позитивистской антропологии, чего нельзя
сказать о работах Гелла и Стратерн, ставящих вопрос о границах индивида и
тела соответственно.
В комментарии Дмитрия Баранова представлена вещеведческая традиция
этнографических и фольклорных исследований. В чем я с ним, однако, вряд
ли смогу согласиться, так это с его попыткой сведения различий между этими
и приведенными в моей статье подходами к различиям сугубо терминологиче-
ским, а также с попыткой описания материального поворота как основанного
на серии метафор. Вся представленная в обзорной части моей статьи литерату-
ра по экологии сознания и аффекта свидетельствует именно об активной роли
материальных элементов среды. Киоскер из моего примера, не умеющая скла-
дывать в уме двузначные цифры, оказалась бы без работы, если бы не участие
калькулятора в ее счетных операциях. Команда современного корабля (пример
Эдвина Хатчинса) не смогла бы даже выйти из порта без надежной работы мно-
жества устройств, играющих активную роль в обеспечении движения и ориен-
тации судна. Этим описанные подходы, основанные среди прочего на новейших
данных когнитивных наук и подтвержденные детальными этнографическими
исследованиями, кардинально отличаются от представленных в комментарии
моего уважаемого оппонента. Я, впрочем, совершенно согласен с его замеча-
нием, что статья отклоняется от жанра дискуссии, поскольку содержит весьма
объемную обзорную часть, без которой автор мог бы и обойтись, если бы все
описанные в ней подходы были вполне освоены российскими антропологами.
Я согласен также с замечанием Аси Филатовой, что перспектива примене-
ния теории расширенного познания и эмоций в антропологии нуждается в ре-
шении ряда фундаментальных вопросов, прежде чем она будет использована
в прикладных исследованиях. Такую программу, однако, следует с чего-то на-
чинать, и я на протяжении нескольких лет предпринимаю попытки обсуждать
онтологические аспекты этой тематики в сообществе социальных исследовате-
лей, в том числе и антропологов. В качестве сверхзадачи этой статьи я как раз
хотел бы поставить вопрос о роли антропологии в переосмыслении человека,
всегда являющегося элементом значительно более сложных сборок, возможно-
сти действия которого в мире этими сборками всегда уже обусловлены. В более
острой форме этот вопрос звучит так: возможна ли сегодня традиционная ан-
тропология, игнорирующая новые онтологии, достижения нейронаук и фило-
софии сознания? Конечно, для российского антрополога, специализировавше-
гося в основном на одном из секторов исследований идентичности (этническая
идентичность, этническая культура, гендерная и расовая идентичности и т.п.),
сложно включить в сферу своих интересов эти новые направления. Именно по-
этому в качестве своеобразного моста, предоставляющего менее травматичный
переход от традиционной этнологической проблематики (с ее представлениями
о человеке как автономном и привилегированном биологическом виде) к кон-
цепциям, в которых конструкция человеческого оказывается радикально пере-
осмысленной, я и попытался показать связь политики идентичности с пробле-
матикой расширенного сознания и аффекта.
Эти вопросы для слуха российского антрополога, привыкшего к полевой
конкретике, звучат пока избыточно абстрактно. Что такое “человек в сборке”? -
Человек как часть ассамбляжа или один из акторов сети, в которую включены
на равных вещная среда и другие живые существа? Поскольку я привержен
методу автоэтнографии, считая его, по крайней мере в этическом отношении,
104
Этнографическое обозрение № 5, 2022
наиболее правомерным, я завершу эту реплику в дискуссии виньеткой, иллю-
стрирующей “человека в сборке” на собственном примере.
Где-то в пятилетнем возрасте я поймал на удочку свою первую рыбу. С тех
пор я стал заядлым рыболовом-любителем и обычно посвящаю значительную
часть своего отпуска этому увлечению. Поскольку я не могу уместить свой
рыболовный опыт в нескольких строках, имеющихся в моем распоряжении, я
сосредоточусь на подмосковной его части - здесь разнообразие условий и рыб-
ной фауны все-таки ограничено. Рядом с моим домом есть девять прудов, по
крайней мере пять из которых я навещаю регулярно и знаю хорошо. Может,
для незнакомых с рыбалкой это будет звучать странно, но каждый из прудов
(глубина, температура воды, степень ее прозрачности и освещенности, видовое
разнообразие растительного и животного мира) в каждый из сезонов требует
уникальной подготовки и оснастки. Я уже не говорю о рыбе. Для щуки нужна
живцовая удочка (при ловле на малька) или спиннинг (когда ловишь на искус-
ственные приманки - колеблющиеся и вращающиеся блесны, воблеры, баззеры,
рипперы и т.д.), техники проводки которых (освоенные рыбаком техники тела
и владения удилищем) также очень многообразны. Здешняя искушенная плотва
требует особенно чуткой оснастки: тончайшей лесы, легкого маневренного уди-
лища и поплавка, реагирующего на самое слабое прикосновение, и т.п. Не буду
утомлять равнодушного к этому времяпрепровождению читателя особенностя-
ми снастей для других видов обитающих в здешних прудах рыб - окуня, карася,
карпа, леща, бычка-ротана, белого амура и толстолобика. К тому же я ни слова
не сказал о прикормках и приманках, влиянии на клев фаз луны и направления
ветра, о манере клева, времени подсечки и еще тысяче и одной рыболовной
премудрости. Суть не в этом. Суть в том, что каждая рыба и каждый водоем в
каждом отдельном сезоне требуют уникальных техник тела или умений и столь
же уникальных экстенсий (рыболовного снаряжения). Успех рыбака зависит от
“сборки” (владеет ли он такими умениями, есть ли у него соответствующая
оснастка, учел ли он погоду, насколько он знает данный водоем). Мой личный
случай осложняется проблемами со зрением - на волне и при солнечных бликах
я могу не видеть поплавка и пропускать поклевки. Буквально вчера сосед по
рыбалке спросил меня: “А ты что, свой поплавок без очков не видишь?” Я снял
очки и попробовал его увидеть, но смог увидеть лишь разницу между водой и
берегом. Очки, стало быть, являются конститутивной частью моей способности
видеть конкретные вещи, а не цветовые пятна, и мой успех как рыбака зави-
сит еще и от подбора таких снастей, которые я могу видеть или ощущать так-
тильно. Я бы мог добавить сюда и аффективных красок, сопровождающих сам
процесс рыбалки, поимку рыбы или, напротив, ее сход либо пустую поклевку,
но, думаю, что и без этого понятно, что описание сборки имеет тенденцию к
описанию тотальному, динамическому и аффективному, что восстанавливает
этнографию в ее изначальном холистском устремлении, которое за последний
век сильно пострадало от специализации. Уже только эта методологическая
сторона концепций расширенного сознания делает их привлекательными для
антропологов и других представителей социальных наук, использующих каче-
ственные и полевые методы исследований.
Примечания
1 Необходимо отметить, что, как и в случае обсуждаемых в рамках дискус-
сии концепций распределенного сознания, емко охарактеризованных в репли-
ке Аси Филатовой, об энактивизме следует говорить во множественном числе,
поскольку, помимо представленной в комментарии Максима Мирошниченко
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
105
биодинамической версии энактивизма в трактовках Ф. Варелы, Э. Томпсона,
Э. Рош и Э. Ди Паоло, существует также радикальная интерпретация Д. Хутто
и Э. Чемеро и сенсомоторная версия А. Ноэ, каждая из них заслуживает отдель-
ного обсуждения в рамках дискуссий о теориях сознания и познания. Общим
для всех версий тезисом является признание определяющей зависимости со-
знания от действующего тела. Во всех этих версиях материальная среда фигу-
рирует лишь в качестве элемента теории действия и не имеет самостоятельного
онтологического статуса. Кроме того, все эти авторы не рассматривают аффек-
тивную сторону распределенного сознания, не говоря уже о его связях с поли-
тикой идентичности.
Источники и материалы
Даль 1909 - Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4.
СПб.; М.: Издание т-ва М.О. Вольф, 1909.
Лем 2009 - Лем С. Звёздные дневники Ийона Тихого / Пер. с польского
К.В. Душенко. М.: АСТ, 2009.
Ожегов, Шведова 2006 - Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: А ТЕМП, 2006.
Пруст 1999 - Пруст М. По направлению к Свану / Пер. с нем. Н.М. Любимова.
СПб.: Амфора, 1999.
Садовников 1876 - Садовников Д. Загадки русского народа. Сборник загадок,
вопросов, притч и задач. СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1876.
Научная литература
Антонов Д.И. (отв. ред.) Сила взгляда: глаза в мифологии и иконографии.
М.: РГГУ, 2014.
Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс,
2011 [1980].
Бейтсон Г. Экология разума. М.: Смысл, 2000.
Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума. Избранные статьи по антро-
пологии / Пер. с англ. Д.Я. Федотова. М.: КомКнига, 2005.
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999 [1896].
Ваннини Ф. Исследования материальной культуры и социология/антропология
техники // Этнографическое обозрение. 2011. № 5. С. 19-29.
Вивейруш ди Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной
антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
Винчигуэрра Л. Спинозистский ренессанс во Франции. Введение // Логос:
Философско-литературный журнал. 2007. № 2 (59), Современность Спино-
зы во Франции и в России. С. 6-28.
Гаспарян Д.Э. Феноменология без трансцендентального субъекта: нейрофено-
менология и энактивизм в поисках перспективы от первого лица // Фило-
софский журнал. 2020. № 13 (1). С. 80-96.
Герц Р. Смерть и правая рука / Пер. с франц. И. Куликова. М.: ARS PRESS,
2019 [1905].
Гирц К. Искусство как культурная система // Социологическое обозрение. 2010
[1976]. Т. 9. № 2. С 31-54.
Жуандо М. Мой бестиарий. Тверь: Kolonna Publications, 2016 [1947].
Зон-Ретель А. Идеальные поломки. М.: Изд-во Грюндриссе, 2016 [1926].
Иванов Д.В. Экстернализм и теория расширенного сознания // Философия нау-
ки и техники. 2019. № 24 (2). С. 33-42.
106
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Ингольд Т. Больше никаких древностей; больше никакого человека: будущее
прошлое археологии и антропологии // Археология и антропология. Про-
шлое, настоящее, будущее / Ред. Д. Шэнкленд. Харьков: Гуманитарный
центр, 2020. С. 109-127.
Малабу К. Что нам делать с нашим мозгом? М.: V-A-C Press, 2019.
Мол А., Ло Дж. Воплощенное действие, осуществленные тела: пример гипогли-
кемии // Логос. 2017. Т. 27. № 2 (117). С. 233-262.
Петров К.А. Своя техника и чужая наука: особенности обмена между учеными
и пользователями ТКМП-устройств на форуме Reddit.com // Эпистемология
и философия науки. 2022. Т. 59. № 1. С. 154-170.
Петряшин С. Распределенная личность и виртуальная телесность // Технологии
и телесность / Ред. С. Соколовский. М.: ИЭА РАН, 2018. Вып. 3. С. 169-209.
Петряшин С.С. Русский безмен: материальность и (не)справедливость // Живая
старина. 2019. № 3. С. 24-27.
Плампер Я. История эмоций. М.: НЛО, 2018.
Попова О.В. Тело как объект экспериментирования и становление этоса био-
медицины: уроки Нюрнберга // Эпистемология и философия науки. 2021.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: Респу-
блика, 2000 [1943].
Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура / Отв. ред.
Т.В. Цивьян. М.: Наука, 1983. С. 227-284.
Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) //
Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического.
Избранное. М.: Прогресс - Культура, 1995. С. 7-111.
Тузова Е.А. Мотив “Гибели зверя” в лирике В. Хлебникова и Н. Гумилёва //
Вестник Вятского государственного университета. 2008. № 2 (1). С. 65-69.
Феррандо Ф. Философский постгуманизм. М.: Издательский дом Высшей шко-
лы экономики, 2022.
Филева Н.А. Рассказывают мастера: из материалов экспедиций по Архангель-
ской области в 70-80-е годы ХХ века. М.: Сити Принт, 2018.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визги-
на, Н.С. Автономовой. М.: Прогресс, 1977.
Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феми-
низм 1980-х. М.: Ad Marginem, 2017.
Харман Г. О замещающей причинности // Новое литературное обозрение. 2012.
№ 2. С. 75-90.
Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.
Шмелёв А.Д. Парадоксы идентификации // Логический анализ языка. Тожде-
ство и подобие, сравнение и идентификация / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова.
М.: Институт языкознания АН СССР, 1990. С. 33-51.
Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир. Вильнюс: ЕГУ, 2010.
Bateson G. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology,
Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Northvale: Jason Aronson Inc., 1987.
Cahoone L. Our Recent Rousseau: On Paul Shepard // Environmental Philosophy.
2006. Vol. 3 (1). P. 13-26.
Cañada J.A., Sariola S., Butcher A. In Critique of Anthropocentrism: A More-Than-
Human Ethical Framework for Antimicrobial Resistance // Medical Humanities.
Clark A. Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science. Oxford:
Oxford University Press, 2000.
Clark A. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human
Intelligence. N.Y.: Oxford University Press, 2003.
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
107
Clark A. Re-inventing Ourselves: The Plasticity of Embodiment, Sensing, and Mind //
The Journal of Medicine and Philosophy. 2007. Vol. 32. No. 3. P. 263-282.
Clark A., Chalmers D. The Extended Mind // Analysis. 1998. Vol. 58. P. 7-19.
Clark A., Chalmers D. The Extended Mind // The Extended Mind / Ed. R. Menary.
Cambridge, MA: MIT Press, 2010. P. 27-42.
Di Paolo E. Extended Life // Topoi. 2009. Vol. 28. No. 1. P. 9-21.
Dierckxsens G. Introduction: Ethical Dimensions of Enactive Cognition - Perspectives
on Enactivism, Bioethics and Applied Ethics // Topoi. 2022. Vol. 41. P. 1-5.
Dupré J. Against Reductionist Explanations of Human Behavior // Aristotelian
Society Supplementary. 1998. Vol. 72 (1). P. 153-172.
Dupré J. Processes Within Processes: A Dynamic Account of Living Beings and
Its Implications for Understanding the Human Individual // Biological Identity:
Perspectives from Metaphysic and the Philosophy of Biology / Eds. A.S. Meincke,
J. Dupré. L.: Routledge, 2020. P. 149-166.
Froese T. Bio-Machine Hybrid Technology: A Theoretical Assessment and Some
Suggestions for Improved Future Design // Philosophy & Technology. 2014.
Vol. 27. No. 4. P. 539-560.
Gallagher S. The Socially Extended Mind // Cognitive Systems Research. 2013.
Vol. 25. P. 4-12.
Gell A. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 1998.
Grosz E. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington: Indiana
University Press, 1994.
Hartigan L.R. Joseph Cornell: Navigating the Imagination. New Haven: Yale
University Press, 2007.
Hertz T., Garcia M.M., Schlüter M. From Nouns to Verbs: How Process Ontologies
Enhance Our Understanding of Social-Ecological Systems Understood as
Complex Adaptive Systems // People and Nature. 2020. Vol. 2 (2). P. 328-338.
Hicks D. The Material-Cultural Turn: Event and Effect // The Oxford Handbook
of Material Culture Studies / Eds. D. Hicks, M.C. Beaudry. Oxford: Oxford
University Press, 2010. P. 25-98.
Jonas H. The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. Evanston:
Northwestern University Press, 2001.
Kirchhoff M.D. Extended Cognition and Fixed Properties: Steps to a Third-Wave
Version of Extended Cognition // Phenomenology and the Cognitive Sciences.
2012. Vol. 11 (2). P. 287-308.
Kline R. Where are the Cyborgs in Cybernetics? // Social Studies of Science. 2009.
Vol. 39. No. 3. P. 331-362.
Krueger J., Szanto T. Extended Emotions // Philosophy Compass. 2016. Vol. 11 (12).
P. 863-878.
León F., Szanto T., Zahavi D. Emotional Sharing and the Extended Mind // Synthese.
2017. Vol. 196 (12). P. 4847-4867.
Maiese M., Hanna R. The Mind-Body Politic. Cham: Springer, 2019.
Malafouris L. Metaplasticity and the Primacy of Material Engagement // Time and
Mind. 2015. Vol. 8. No. 4. P. 351-371.
Marin L. Enactive Principles for the Ethics of User Interactions on Social Media:
How to Overcome Systematic Misunderstandings Through Shared Meaning-
Making // Topoi. 2022. Vol. 41. P. 1-13.
Menary R. Cognitive Integration and the Extended Mind // The Extended Mind /
Ed. R. Menary. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. P. 227-243.
Miller D. Material Culture and Mass Consumption. Oxford, MA: Basil Blackwell, 1987.
108
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Miller D. Materiality: An Introduction // Materiality / Ed. D. Miller. Durham: Duke
University Press, 2005. P. 1-50.
Mills M. On Disability and Cybernetics: Helen Keller, Norbert Wiener, and the
Hearing Glove // Differences. 2011. Vol. 22. No. 2-3. P. 74-11.
Preciado P.B. Countersexual Manifesto. N.Y.: Columbia University Press, 2018.
Putnam H. Meaning and Reference // The Journal of Philosophy. 1973. Vol. 70 (19).
P. 699-711.
Shamash J. The Evil Eye: The Magic of Envy and Destruction. L.: Foxy Books, 2020.
Shepard P. Coming Home to the Pleistocene. Washington: Island Press, 2013.
Shepard P. Man in the Landscape: A Historic View of the Esthetics of Nature. Athens:
University of Georgia Press, 2002.
Shepard P. The Tender Carnivore and The Sacred Game. Athens: University of
Georgia Press, 2011.
Siebers T. Disability in Theory: From Social Constructionism to the New Realism of
the Body // American Literary History. 2001. Vol. 13. No. 4. P. 737-754.
Slaby J., Gallagher S. Critical Neuroscience and Socially Extended Minds // Theory,
Culture & Society. 2015. Vol. 32. No. 1. P. 33-59.
Strathern M. The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with
Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press, 1988.
Thompson E., Stapleton M. Making Sense of Sense-Making: Reflections on Enactive
and Extended Mind Theories // Topoi. 2009. Vol. 28. No. 1. P. 23-30.
Vannini P. Non-Representational Ethnography: New Ways of Animating Lifeworlds //
Cultural Geographies. 2015. Vol. 22 (2). P. 317-327.
Varela F.J. Principles of Biological Autonomy. N.Y.: North-Holland, 1979.
Varela F.J., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind: Cognitive Science and
Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
Woodall J. Portraiture: Facing the Subject. Manchester: Manchester University Press, 1997.
R e s e a r c h A r t i c l e
Baranov, D.A., A.V. Verle, M.D. Miroshnichenko, S.S. Petriashin, А.A. Filatova,
S.Y. Shevchenko, and S.V. Sokolovskiy. On the Ecology of Mind and Affect:
Comments [K ekologii soznaniia i affekta: kommentarii]. Etnograficheskoe
EDN: IAFQUE ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
Russian Museum of Ethnography (4/1 Inzhenernaia Str., St. Petersburg, 191186, Russia)
State University (2 Lenin Sq., Pskov, 180000, Russia)
National Research University Higher School of Economics (11 Pokrovsky Bulvar,
Moscow, 109028, Russia)
Russian Museum of Ethnography (4/1 Inzhenernaya St., St. Petersburg, 191186, Russia)
University of Tyumen (6 Volodarskogo Str., Tyumen, 625003, Russia)
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
109
Sergei Shevchenko |
simurg87@list.ru |
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (12/1 Goncharnaya Str., Moscow,
109240, Russia)
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky
prospect, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
externalism, enactivism, memory ecology, cognitive micro-niche, affect, evocative
objects, Umwelt, extensions, extended cognition, material culture, possessions,
identity politics
Abstract
This article presents critical comments and responses to Sergei Sokolovskiy’s essay
“Things, Affects and the Ecology of Mind: On Material Aspects of Identity Politics”,
in which the author raises the issues of ecologically distributed, or extended and
environmentally embedded human cognition and affects and their relations with
individual or grass-root identity politics. This discussion features contributions by
D.A. Baranov, A.V. Verle, M.D. Miroshnichenko, S.S. Petriashin, А.A. Filatova, and
S.Y. Shevchenko.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
[grant
no. 22-18-00450] (recipients M.D. Miroshnichenko)
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation [075-15-2022-328]
(recipients S.V. Sokolovskiy)
References
Antonov, D.I., ed. 2014. Sila vzgliada: glaza v mifologii i ikonografii [The Power of
Glance: Eyes in Mythology and Iconography]. Moscow: RGGU.
Bart, R. (1980) 2011. Camera lucida. Kommentarii k fotografii [Camera Lucida:
Reflections on Photography]. Moscow: Ad Marginem Press.
Bateson, G. 1987. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology,
Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Northvale: Jason Aronson Inc.
Bateson, G. 2000. Ekologiia razuma [Ecology of Mind]. Мoscow: Smysl.
Bateson, G. 2005. Shagi v napravlenii ekologii razuma. Izbrannyye stat’i po
antropologii [Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology],
translated by D.Y. Fedotova. Moscow: KomKniga.
Bergson, A. (1896) 1999. Tvorcheskaia evoliutsiia. Materiia i pamiat’ [Creative
Evolution: Matter and Memory]. Minsk: Kharvest.
Cahoone, L. 2006. Our Recent Rousseau: On Paul Shepard. Environmental
Philosophy 3 (1): 13-26.
Cañada, J.A., S. Sariola, and A. Butcher. 2022. In Critique of Anthropocentrism:
A More-Than-Human Ethical Framework for Antimicrobial Resistance. Medical
Clark, A. 2000. Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science.
Oxford: Oxford University Press.
Clark, A. 2003. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of
Human Intelligence. New York: Oxford University Press.
110
Этнографическое обозрение № 5, 2022
Clark, A. 2007. Re-inventing Ourselves: The Plasticity of Embodiment, Sensing, and
Mind. The Journal of Medicine and Philosophy 32 (3): 263-282.
Clark, A., and D. Chalmers. 1998. The Extended Mind. Analysis 58: 7-19.
Clark, A., and D. Chalmers. 2010. The Extended Mind. In The Extended Mind, edited
by R. Menary, 27-42. Cambridge, MA: MIT Press.
Di Paolo, E. 2009. Extended Life. Topoi 28 (1): 9-21.
Dierckxsens, G. 2022. Introduction: Ethical Dimensions of Enactive Cognition -
Perspectives on Enactivism, Bioethics and Applied Ethics. Topoi 41: 1-5. https://
doi.org/10.1007/s11245-021-09787-6
Dupré, J. 1998. Against Reductionist Explanations of Human Behavior. Aristotelian
Society Supplementary 72 (1): 153-172.
Dupré, J. 2020. Processes Within Processes: A Dynamic Account of Living Beings
and Its Implications for Understanding the Human Individual. In Biological
Identity: Perspectives from Metaphysic and the Philosophy of Biology, edited by
A.S. Meincke and J. Dupré, 149-166. London: Routledge.
Elkins, J. 2010. Issleduia vizual’nyi mir [Exploring the Visual World]. Vilnius: EGU.
Ferrando, F.
2022. Filosofskii postgumanizm
[Philosophical Posthumanism].
Mosсow: Izdatel’skii dom Vysshei shkoly ekonomiki.
Fileva, N.A. 2018. Rasskazyvaiut mastera: iz materialov ekspeditsii po Arkhangel’skoi
oblasti v 70-80-e gody XX veka [The Masters Tell: From the Materials of
Expeditions in the Arkhangelsk Region in the 70-80s of the Twentieth Century].
Moscow: Siti Print.
Foucault, M. 1977. Slova i veshchi. Arkheologiia gumanitarnykh nauk [The Order of
Things: An Archaeology of the Human Sciences]. Moscow: Progress.
Froese, T. 2014. Bio-Machine Hybrid Technology: A Theoretical Assessment and Some
Suggestions for Improved Future Design. Philosophy & Technology 27 (4): 539-560.
Gallagher, S. 2013. The Socially Extended Mind. Cognitive Systems Research 25: 4-12.
Gasparian, D.E.
2020. Fenomenologiia bez transtsendental’nogo sub’ekta:
neirofenomenologiia i enaktivizm v poiskakh perspektivy ot pervogo litsa
[Phenomenology without a Transcendental Subject: Neurophenomenology and
Enactivism in Search of a First-Person Perspective]. Filosofskii zhurnal 13 (1): 80-96.
Geerz, K. (1976) 2010. Iskusstvo kak kul’turnaia sistema [Art as a Cultural System].
Sotsiologicheskoe obozrenie 2: 31-54.
Gell, A. 1998. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.
Grosz, E. 1994. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington:
Indiana University Press.
Haraway, D. 2017. Manifest kiborgov: nauka, tekhnologiia i sotsialisticheskii
feminizm 1980-kh [Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist
Feminism in the 1980s]. Moscow: Ad Marginem.
Harman, G. 2012. O zameshchaiushchei prichinnosti [On Vicarious Causation].
Novoe literaturnoe obozrenie 2 (114): 75-90.
Hartigan, L.R. 2007. Joseph Cornell: Navigating the Imagination. New Haven: Yale
University Press.
Hertz, R. (1905) 2019. Smert’ i pravaia ruka [Death and the Right Hand]. Moscow:
ARS PRESS.
Hertz, T., M.M. Garcia, and M. Schlüter. 2020. From Nouns to Verbs: How Process Ontologies
Enhance Our Understanding of Social-Ecological Systems Understood as Complex
Hicks, D. 2010. The Material-Cultural Turn: Event and Effect. In The Oxford
Handbook of Material Culture Studies, edited by D. Hicks and M.C. Beaudry,
25-98. Oxford: Oxford University Press.
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
111
Ingold, T. 2020. Bol’she nikakikh drevnostei; bol’she nikakogo cheloveka: budushchee
proshloe arkheologii i antropologii [No More Ancient; No More Human: The Future
Past of Archaeology and Anthropology]. In Arkheologiia i antropologiia. Proshloe,
nastoiashchee, budushchee [Archaeology and Anthropology: Past, Present and
Future], edited by D. Shankland, 109-127. Khar’kov: Gumanitarnyi tsentr.
Ivanov, D.V. 2019. Eksternalizm i teoriia rasshirennogo soznaniia [Externalism and
the Theory of Extended Mind]. Filosofiia nauki i tekhniki 24 (2): 33-42.
Jonas, H. 2001. The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. Evanston:
Northwestern University Press.
Jouhandeau, M. 2016. Moi bestiarii [My Bestiary]. Tver’: Kolonna Publications.
Kirchhoff, M.D. 2012. Extended Cognition and Fixed Properties: Steps to a Third-
Wave Version of Extended Cognition. Phenomenology and the Cognitive Sciences
11 (2): 287-308.
Kline, R. 2009. Where are the Cyborgs in Cybernetics? Social Studies of Science 39 (3):
331-362.
Krueger, J., and T. Szanto. 2016. Extended Emotions. Philosophy Compass 11 (12):
863-878.
León, F., T. Szanto, and D. Zahavi. 2017. Emotional Sharing and the Extended Mind.
Synthese 196 (12): 4847-4867.
Maiese, M., and R. Hanna. 2019. The Mind-Body Politic. Cham: Springer.
Malabou, C. 2019. Chto nam delat’s nashim mozgom? [What Should We Do with Our
Brain?]. Moscow: V-A-C Press.
Malafouris, L. 2015. Metaplasticity and the Primacy of Material Engagement. Time
and Mind 8 (4): 351-371.
Marin, L. 2022. Enactive Principles for the Ethics of User Interactions on Social
Media: How to Overcome Systematic Misunderstandings Through Shared
Meaning-Making. Topoi 41: 1-13.
Menary, R. 2010. Cognitive Integration and the Extended Mind. In The Extended
Mind, edited by R. Menary, 227-243. Cambridge, MA: MIT Press.
Miller, D. 1987. Material Culture and Mass Consumption. Oxford, MA: Basil
Blackwell.
Miller, D. 2005. Materiality: An Introduction. In Materiality, edited by D. Miller,
1-50. Durham: Duke University Press.
Mills, M. 2011. On Disability and Cybernetics: Helen Keller, Norbert Wiener, and
the Hearing Glove. Differences 22 (2-3): 74-11.
Mol, A., and J. Law. 2017. Voploshchennoe deistvie, osushchestvlennye tela:
primer gipoglikemii [Embodied Action, Enacted Bodies: The Example of
Hypoglycaemia]. Logos 27 (2/117): 233-262.
Petriashin, S. 2018. Raspredelennaia lichnost’ i virtual’naia telesnost’ [Distributed
Personhood and Virtual Corporeality]. In Tekhnologii i telesnost’ [Technologies
and Corporeality], edited by S. Sokolovskiy, 3: 169-209. Moscow: IEA RAN.
Petriashin, S.S. 2019. Russkii bezmen: material’nost’ i (ne)spravedlivost’ [Russian
Bezmen: Materiality and (In)justice]. Zhivaia starina 3: 24-27.
Petrov, K.A. 2022. Svoia tekhnika i chuzhaia nauka: osobennosti obmena mezhdu
uchenymi i pol’zovateliami TKMP-ustroistv na forume Reddit.com [Scientists
and TDCS-Users Trade’s Specific at Reddit.com]. Epistemologiia i filosofiia
nauki 1: 154-170.
Plamper, J. 2018. Istoriia emotsii [The History of Emotions]. Moscow: Novoe
literaturnoe obozrenie.
Popova, O.V.
2021. Telo kak ob’ekt eksperimentirovaniia i stanovlenie etosa
112
Этнографическое обозрение № 5, 2022
biomeditsiny: uroki Niurnberga [Body as an Object of Experimentationand the
Emergence of Biomedicine Ethos: The Nuremberg Lessons]. Epistemologiia i
Preciado, P.B. 2018. Countersexual manifesto. New York: Columbia University Press.
Putnam, H. 1973. Meaning and Reference. The Journal of Philosophy 70 (19):
699-711.
Sartre, J.-P.
(1943)
2000. Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoi ontologii
[Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology]. Moscow:
Respublika.
Shamash, J. 2020. The Evil Eye: The Magic of Envy and Destruction. London: Foxy
Books.
Shepard, P. 2002. Man in the Landscape: A Historic View of the Esthetics of Nature.
Athens: University of Georgia Press.
Shepard, P. 2011. The Tender Carnivore and the Sacred Game. Athens: University of
Georgia Press.
Shepard, P. 2013. Coming Home to the Pleistocene. Washington: Island Press.
Shmelev, A.D.
1990. Paradoksy identifikatsii
[Paradoxes of Identification].
In Logicheskii analiz yazyka. Tozhdestvo i podobie, sravnenie i identifikatsiia
[Logical Analysis of Language: Identity and Similarity, Comparison and
Identification], edited by N.D. Arutiunova, 33-51. Moscow: Institut yazykoznaniia
AN SSSR.
Siebers, T. 2001. Disability in Theory: From Social Constructionism to the New
Realism of the Body. American Literary History 13 (4): 737-754.
Slaby, J., and S. Gallagher. 2015. Critical Neuroscience and Socially Extended Minds.
Theory, Culture & Society 32 (1): 33-59.
Sohn-Rethel, A. (1926) 2016. Ideal’nye polomki [Perfect Breakdowns]. Moscow:
Izdatel’stvo Griundrisse.
Strathern, M. 1988. The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with
Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press.
Thompson, E., and M. Stapleton. 2009. Making Sense of Sense-Making: Reflections
on Enactive and Extended Mind Theories. Topoi 28 (1): 23-30.
Toporov, V.N. 1983. Prostranstvo i tekst [Space and Text]. In Tekst: semantika i
struktura [Text: Semantics and Structure], edited by T.V. Tsivian, 227-284.
Moscow: Nauka.
Toporov,V.N. 1995.Veshch’ v antropotsentricheskoi perspektive (apologiia Pliushkina)
[The Thing in an Anthropocentric Perspective (An Apology of Plyushkin)]. In
Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Issledovaniia v oblasti mifopoeticheskogo. Izbrannoe
[Myth, Ritual, Symbol, Image: Research in the Field of the Mythopoetic: Selected
Works], by V.N. Toporov, 7-111. Moscow: Progress - Kul’tura.
Tsivian, T.V. 2001. Semioticheskie puteshestviia [Semiotic Travels]. St. Petersburg:
Izdatel’stvo Ivana Limbakha.
Tuzova, E.A. 2008. Motiv “Gibeli zveria” v lirike V. Khlebnikova i N. Gumilova [The
Motif of “Death of the Beast” in the Lyrics of V. Khlebnikov and N. Gumiliov].
Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo universiteta 2: 65-69.
Vannini, P. 2011. Issledovaniia material’noi kul’tury i sotsiologiia/antropologiia
tekhniki [Material Culture Studies and Sociology/Anthropology of Technology].
Etnograficheskoe obozrenie 5: 19-29.
Vannini, P. 2015. Non-Representational Ethnography: New Ways of Animating
Lifeworlds. Cultural Geographies 22 (2): 317-327.
Varela, F.J. 1979. Principles of Biological Autonomy. New York: North-Holland.
Баранов Д.А. и др. К экологии сознания и аффекта: комментарии
113
Varela, F.J., E. Thompson, and E. Rosch. 1991. The Embodied Mind: Cognitive
Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press.
Vinciguerra, L. 2007. Spinozistskii renessans vo Frantsii. Vvedenie [Spinozist
Renaissance in France. Introduction]. Logos: Filosofsko-literaturnyi zhurnal 2
(59): 6-28.
Viveiros de Castro, E. 2017. Kannibal’skie metafiziki [Cannibal Metaphysics].
Moscow: Ad Marginem Press.
Woodall, J. 1997. Portraiture: Facing the Subject. Manchester: Manchester University
Press.