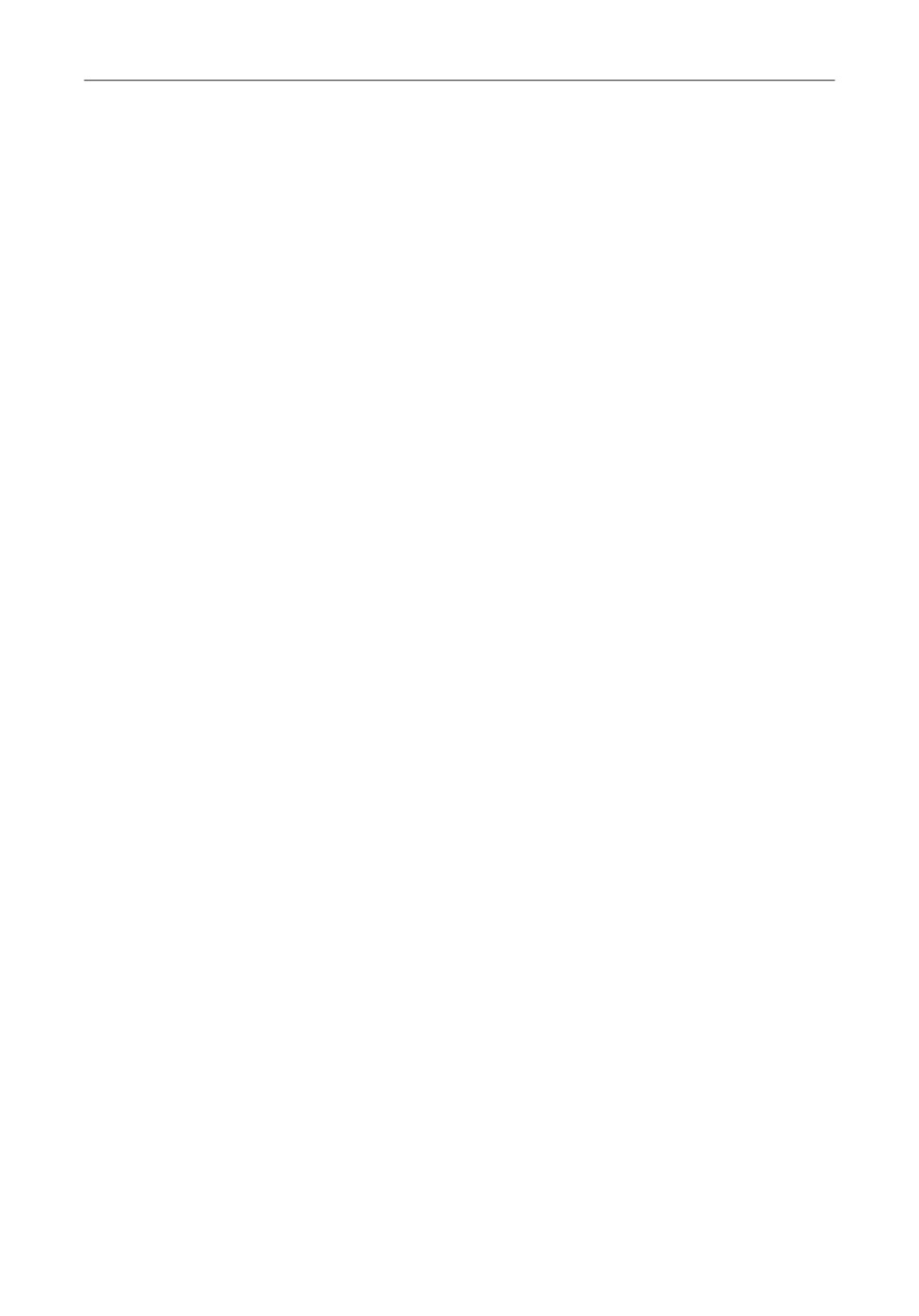РАЗЛОМЫ ВАЛААМСКОЙ ПАМЯТИ:
МЕМОРИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ВАЛААМА
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ОСТРОВА
Е.А. Мельникова
Melek@eu.spb.ru | к. и. н., доцент | Европейский университет в Санкт-Петербурге
(ул. Гагаринская 6/1a, Санкт-Петербург, 191187, Россия)
Ключевые слова
наследие, антропология памяти, переселение, устная история, травматическое прошлое
Аннотация
Статья посвящена мемориальному сообществу Валаама, сложившемуся после того, как
сооружения Валаамского монастыря были переданы Русской православной церкви и
местные жители были вынуждены покинуть остров. Я обращаюсь к анализу различных
типов воспоминаний и разных форм включения истории архипелага в личные биогра-
фии его недавних обитателей. Рассматривая Валаам как важное место памяти в судьбах
его бывших жителей, я пытаюсь ответить на вопрос о том, почему в отличие от других
мигрантов, возвращающихся на родину в поисках следов своего прошлого, переселен-
цы с Валаама отказываются приезжать сюда, предпочитая говорить об острове как утра-
ченном и недоступном. В статье дается краткая история послевоенного заселения архи-
пелага, формирования сообщества “хранителей” в 1970-1980-е годы и прослеживается
несколько биографий местных жителей, чья молодость была связана с жизнью и рабо-
той на острове. Опираясь на исследования, посвященные воспоминаниям мигрантов,
я показываю специфику современной памяти об архипелаге как территории фантом-
ной боли, обусловленной не только вынужденным переселением людей, но и утратой
ими статуса экспертов и защитников исторического и культурного наследия Валаама.
В статье использованы полевые материалы 2020-2021 гг.
первые я попала на Валаам только в 2016 г. Хотя к тому времени я уже
довольно давно занималась исследованиями в ближайших окрестностях
В
архипелага (на материковой части Ладожского озера), сам он всегда оста-
вался в стороне. Люди, с которыми я разговаривала, не упоминали о нем и,
казалось, никогда там не бывали. Складывалось ощущение, что остров отделен
от материковой части не 20 км воды, а толстыми стенами, превратившими его в
изолированное и недоступное пространство. Я поехала посмотреть на остров,
Статья поступила 15.09.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.11.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаа-
ма в поисках утраченного острова // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 45-66.
Melnikova, Е.A. 2023. Razlomy valaamskoi pamiati: memorial’noe soobshchestvo Valaama v poiskakh
utrachennogo ostrova [Valaam Memory Breaks: Valaam’s Memorial Community in Search of the
EDN PMJKFG
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
46
Этнографическое обозрение № 1, 2023
потому что знала о нем из совсем других источников. Еще со школьных лет
Валаам казался мне загадочным и удивительным местом. Я помнила, как один
из моих учителей “уехал жить на Валаам”. И сама эта фраза, которую повторяли
друг за другом одноклассники, звучала тогда таинственно и притягательно.
В 2016 г. я приехала на Валаам в составе туристической группы, набранной
в Сортавала - отсюда в летний сезон регулярно ходят “Метеоры” на архипе-
лаг. Гид встретил нас на пристани, потом долго водил по дорожкам Валаама и
закончил экскурсию в Спасо-Преображенском соборе. За эти несколько часов
мы увидели ухоженную территорию, прекрасно отреставрированные часовни
и скиты, разбросанные среди лесов, но не встретили почти никого из жителей
Валаама - только такие же, как мы, туристы бродили по ухоженным дорожкам
со своими экскурсоводами. Спустя три года я снова оказалась на острове, но
уже без группы, в качестве “дикого туриста” (Мельникова 2021). Мне хотелось
увидеть архипелаг своими глазами, чтобы не зависеть от взгляда и расписания
экскурсовода. В этот раз валаамские просторы поразили меня еще больше сво-
ими благоустроенностью, блеском и безлюдьем.
Территория Валаамского архипелага составляет 36 км2, на которых сейчас
раскинулся Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь,
включающий центральную усадьбу с главным собором и основными монастыр-
скими корпусами, а также 13 скитов и больше 20 часовен в разных уголках ар-
хипелага. Здесь есть и обширное хозяйство: собственная пекарня, коровник и
молочная ферма, рыборазводный завод, сады, конюшня, мастерские, грузовой
и пассажирский флот, несколько гостиниц, трапезных и кафе. На островах со-
хранились и светские организации, но их работа тоже связана с монастырем.
В воинской части, все еще дислоцированной на архипелаге, проходят службу на-
сельники Валаамского монастыря призывного возраста (Воинская часть 2015).
Пожарно-спасательная часть № 39 МЧС РФ официально отвечает за охрану ре-
лигиозной организации “Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный
мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)”.
Когда-то существовавший на острове музей-заповедник превратился в монастыр-
ский музей, расположенный на территории Свято-Владимирского скита.
Людей на острове немного. Братия монастыря составляет около 200 чело-
век; точное число назвать трудно, так как происходит постоянная ротация по-
слушников, монахов и иноков. В летний сезон, когда начинается судоходство,
население Валаама увеличивается: здесь появляются волонтеры, работающие
в монастыре, и сотрудники паломнической службы, обслуживающие тури-
стов, число которых в последние годы составляет более 200 тыс. человек в год.
Но даже летом территория архипелага выглядит пустынной: путешественники
приезжают в основном без ночевки, всего на несколько часов, и перемещаются
по острову в составе туристических и паломнических групп по строго опре-
деленным маршрутам. Больше всего людей можно встретить в центральной
усадьбе и на ближайшей к ней палаточной стоянке, где размещаются летние
семейные и молодежные лагеря, а часто живут и приехавшие ненадолго волон-
теры и трудники. Удаленные части острова труднодоступны и скрыты от глаз
посторонних. На Красном мысу все еще располагается гидрометеостанция, в
Свято-Владимирском скиту - резиденции Патриарха Московского и всея Руси
и Президента РФ. Все эти объекты закрыты для посетителей.
Сегодня территория архипелага - это пространство монастыря. Вплоть до
недавнего времени попасть сюда можно было только на теплоходе паломни-
ческой службы1. Местные гостиницы также принадлежат монастырю. Он же
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
47
курирует все палаточные стоянки, расположенные на разном удалении от цен-
тральной усадьбы. На стенах кафе на пристани висят старые фотографии вала-
амской братии. В местном магазине продаются монастырские сыры, копченая
форель с собственного рыбозавода и кальвадос, изготовленный монахами из ва-
лаамских яблок. Приезжая на остров, вы попадаете на территорию монастыря и
видите заботливого хозяина, опекающего и благоустраивающего свои владения.
Ничто в этом пространстве не говорит о существовании других претендентов,
оспаривающих право считаться хозяевами этой земли. Ничто не говорит о том,
что монастырские формы заботы и опеки о Валааме кем-то вообще могут быть
оспорены.
И тем не менее за глянцевыми пейзажами сегодняшнего Валаама скрывают-
ся сложные отношения и конфликты вокруг прошлого архипелага. Эти проти-
воречия скрыты не только от глаз туристов, приезжающих на остров всего на
несколько часов, но и от таких исследователей, как я. Люди, когда-то жившие
здесь, не любят делиться воспоминаниями. “Не уверена, что хочу ворошить, все
равно ничего нельзя изменить”, - ответила на мою просьбу об интервью одна
из бывших местных жительниц. Для того, чтобы услышать валаамскую исто-
рию, мне пришлось преодолевать сопротивление людей, подолгу уговаривать
их встретиться и поговорить о валаамском прошлом.
В начале 2000-х годов Валаам, как и некоторые другие объекты историче-
ского наследия, возвращенные Русской православной церкви после перестрой-
ки2, стал площадкой громких конфликтов и социального противостояния. Здесь
проходили митинги и пикеты, местные жители писали петиции и обращались
в суды, сюда приезжали журналисты, чтобы запечатлеть скандальное выселе-
ние людей из помещений так наз. Зимней гостиницы3. Сегодня это тихое ме-
сто, полное благолепия и благочиния. Конфликт кажется исчерпанным, а его
история завершенной. И все-таки социальное напряжение вокруг валаамского
прошлого и настоящего иногда дает о себе знать. В публикациях на страницах
оппозиционных медиа Валаам по-прежнему упоминается в связи с противобор-
ством монастыря и мирян. В обсуждениях “валаамских домов”, построенных
для бывших жителей острова в Сортавала, в рассказах самих переселенцев с
Валаама, которые до сих пор считают его своей утраченной землей обетован-
ной, остров стал не домом по рождению, а домом по выбору.
История Валаама - это история советской секуляризации и постсоветской
десекуляризации, это также история превращения церковного наследия в куль-
турное и историческое национальное достояние (Штырков, Кормина 2015) и
последующего ресайклинга секулярных ценностей в новой постсекулярной си-
стеме категорий (Luehrmann 2011). Это история противостояния различных пу-
блик, оспаривающих право считаться полноправными хозяевами и хранителя-
ми наследия острова, это также история превращения Валаама в пространство
фантомной боли, существующее в воображении тех, кто отказывается возвра-
щаться туда в реальности.
В этой работе я рассматриваю Валаам как место памяти в биографиях лю-
дей, которые его покинули. Расширение монастыря привело к тому, что практи-
чески все они были вынуждены уехать и начать новую жизнь на новом месте.
Но память о валаамском прошлом не оставляет их, определяя взгляд на насто-
ящее и будущее.
В основном я использую материалы интервью бывших жителей острова,
записанных мной в 2021 и 2022 гг. Большинство этих интервью были взяты
во время поездки в окрестности Сортавала, но в некоторых случаях я встреча-
48
Этнографическое обозрение № 1, 2023
лась с людьми онлайн, пользуясь различными цифровыми платформами. Я так-
же привлекла материалы блогов, каналов в социальных сетях и СМИ, активно
публиковавшиеся в начале 2000-х годов. В 2007 г. в социальной сети “Вконтакте”
была создана группа “Валаам - люди, события, истории: сообщество тех, для
кого Остров стал Домом”, объединяющая почти полторы тысячи участников,
многие из которых делились на страницах группы своими воспоминаниями
и мыслями. Некоторые из этих текстов позже были опубликованы (Воробьев
2020; Груздев 2017).
Оставляя в стороне историю превращения Валаама из секулярного, светско-
го пространства исторического и природного наследия в один из главных пра-
вославных центров Северо-Запада России, я фокусируюсь на личной памяти об
острове, ставшем не только пространственной, но и темпоральной категорией
для бывших жителей, поскольку, вспоминая о нем, они вспоминают и о месте,
и о времени. Подобные формы работы памяти чаще всего рассматриваются в
контексте миграций и в особенности вынужденных форм переселения, обу-
словленных изменением государственных границ, войнами, насилием, депор-
тациями (Fortier 2000; De Sas Kropiwnicki 2016; Kleist, Glynn 2012; Deek 2016;
Thiranagama 2007; Webber 2015; Lehrer, Meng 2015; Smith 2013; Darieva 2011)4.
В этих случаях память начинает создавать фантомные миры утраченного про-
шлого, локализуемые в тех или иных пространственных границах.
Примеры фантомной боли, вызванной вынужденным отъездом, описывает в
ряде работ М. Хирш, хорошо известная благодаря предложенному ею понятию
“постпамять”. Исследования М. Хирш тесно связаны с ее собственной биогра-
фией и семейной историей. М. Хирш родилась в семье евреев из городка Чер-
новцы, который в начале XX в. был частью Австро-Венгрии, позже Румынии,
после Второй мировой войны вошел в состав СССР, а с 1989 г. стал частью
Украины. Ее родители пережили немецкую оккупацию в черновицком гетто,
а в 1945 г. покинули город, перебравшись сначала в румынский Тимишоара, -
здесь и родилась Марианна - а потом в Бухарест. В середине 1960-х годов семья
Хирш эмигрировала в США, где девушка окончила университет и где продолжа-
ет жить и работать сегодня. Во всех своих публикациях М. Хирш подчеркивает,
что главным толчком и стимулом к ее исследованиям было желание разобраться
в собственной памяти о прошлом: о событиях, которые с ней не происходили, но
которые она переживает даже сильнее, чем события своей жизни. Одна из книг,
которую М. Хирш написала вместе с мужем Л. Спитцером, посвящена памяти о
Черновцах - местечке, где когда-то жили ее родители и куда исследовательница
приезжала несколько раз вместе с ними и с такими же, как она сама, представи-
телями поколения постпамяти - детьми, возвращающимися не в свое, а в чужое
прошлое (Hirsch, Spitzer 2010). “Наша перспектива, - пишет М. Хирш, - это
взгляд появившейся на свет в Румынии дочери тех, кто родился, вырос и пере-
жил Холокост в месте, которое они никогда не переставали называть Черновиц,
и родившегося в Боливии сына австрийских беженцев, бежавших в Южную
Америку из гитлеровской Вены” (Ibid.: xx). Сама идея “Черновиц”, по мнению
М. Хирш, является результатом утраты этого места, а стремление вернуться
назад, в равной степени характерное как для самих эмигрантов, так и для их
детей, означает желание удостовериться в том, что фантомное место прошлого
существовало и продолжает существовать в реальности.
Такие же “духи дома” витают и среди тех, кто вынужденно покинул свои
дома в результате других войн или депортаций. Жители Приладожской Каре-
лии, уехавшие со своими семьями в Финляндию, после того как эта территория
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
49
перешла в 1940 и 1944 гг. к Советскому Союзу, также создают и сохраняют
образ утраченной родины, реконструируя его по осколкам своих воспомина-
ний уже на новом месте (Fingerroos 2008; Sihvo 1999). Желание вернуться и
удостовериться одновременно и в существовании, и в утрате - движущая сила
так наз. ностальгического туризма или туризма в поисках своих корней (root
tourism), активно расширявшегося в последние десятилетия (Long, Oxfeld 2004;
Marschall 2017, 2018; Darieva 2011; Basu 2007).
Память о Валааме одновременно похожа на воспоминания о покинутой ро-
дине и отличается от них. Валаам до сих пор присутствует в жизни оставив-
ших его людей в форме витающих духов прошлого. Но в отличие от бывших
жителей Черновцов или финнов, уехавших после войны в Финляндию, Вала-
ам как пространство, существующее в настоящем, открытое и доступное для
посещения, не становится местом мемориального паломничества для бывших
жителей. Наоборот, они отвергают его, отказывая ему в праве считаться “тем
самым” островом.
В этой работе я пытаюсь ответить на вопрос, почему бывшие жители Валаама
отказываются приезжать сюда. В статье я последовательно останавливаюсь на
истории формирования “валаамского текста” и “валаамской публики” как ме-
мориального сообщества хранителей и ценителей наследия острова, на биогра-
фических нарративах представителей этой группы и специфике их памяти о
жизни на архипелаге.
Валаамский текст и валаамская публика
Люди, о памяти которых пойдет речь, оказались на Валааме достаточно
поздно. Они не родились здесь и, как правило, приехали сюда по собственной
воле, а не по распределению или случайному стечению обстоятельств. В то вре-
мя, когда они поселились на острове, здесь уже сложилась достаточно пестрая
социальная конфигурация. С одной стороны, к началу 1980-х годов на архипе-
лаге продолжали жить те, кто приехал сюда сразу после войны. Тогда Валаам
вместе с другими бывшими финскими территориями стал частью Советского
Союза, но уже без монастырской структуры и монахов, уехавших в Финляндию
и основавших в местечке Хейнявеси Новый Валаам. Среди первых поселенцев
были в основном завербованные в разных регионах СССР колхозники и рабо-
чие, приехавшие сюда по программе освоения “новых районов” (Laine 2005;
Большакова 2009; Веригин 2005; Мельникова 2005; Смирнова 2006). В первые
послевоенные годы на Валааме располагались подсобное хозяйство Питкярант-
ского целлюлозно-бумажного комбината, школа юнг и другие поселковые
структуры, куда и устраивались на работу переселенцы5. В 1950 г. на Валааме
был организован Дом инвалидов, ставший “градообразующим предприятием”.
Сюда из аналогичных учреждений Карелии были перевезены пациенты, прие-
хали по распределению или переводом сотрудники (Dale 2013). Дом инвалидов
занимал центральную усадьбу бывшего монастыря и большинство скитов, раз-
бросанных по архипелагу. Но уже с середины 1960-х годов среди обитателей
Валаама появляются новые персонажи - экскурсоводы Ленинградского бюро
путешествий, которые сначала приезжают сюда на теплоходах вместе с тури-
стическими группами, а позже поселяются на Красном мысу, проводя здесь все
лето. Развитие туризма в 1950-1960-е годы привело к тому, что Валаам не толь-
ко стал крайне популярен среди ленинградских путешественников, но и прак-
тически вернул себе былую имперскую славу6. Благодаря активно публиковав-
50
Этнографическое обозрение № 1, 2023
шимся путеводителям и книгам о чудесной и таинственной природе острова,
Валаам превратился в мекку советской интеллигенции, желающей насладиться
дивными пейзажами с картин И.И. Шишкина и А.И. Куинджи, и “пройтись по
дубовым, пихтовым аллеям, где некогда бродили П.И. Чайковский и В.И. Неми-
рович-Данченко” (Черевков 1960: 35).
Традиции благочестия и особенная духовная благодать, которыми славился
Валаам в среде дореволюционной культурной элиты, были исключены из офи-
циального списка достоинств советского острова, уступив место эстетическим
и историческим ценностям секулярной культуры. Но на рубеже 1970-1980-х
годов на волне широкого увлечения различными теософскими течениями эти
секулярные ценности были легко конвертированы в духовные (Смолкин 2021;
Rousselet 2020), и Валаам снова предстал в качестве загадочного, “дивного
острова” особенной духовной силы. В первом советском травелоге о Валааме -
книге В. Исакова, вышедшей в 1984 г., рассказ об острове выступает как ответ
на загадку о его таинственной притягательности:
Я слушал Бориса Сергеевича, вспоминал других валаамских энтузиастов. Когда-то для
меня казалась загадочной та непреодолимая сила, что снова и снова влекла их сюда.
Теперь я не то что разгадал эту загадку. Просто таинственная сила, видимо, постепен-
но распространилась и на меня. Я почувствовал власть Валаама, стал одним из мно-
гих очарованных им странников. Для этого не требовалось ничего особенного. Надо
было лишь однажды приехать сюда. Никуда не спешить. Ходить, смотреть, слушать…
(Исаков 1984: 37).
Риторика особенного “валаамского духа”, подхваченная алармистскими пу-
бликациями о судьбе острова, находящегося под угрозой полного уничтожения,
определила его популярность среди советской интеллигенции в качестве “секу-
лярного священного” культуры (Balkenhol et al. 2020; Kormina 2021; Штырков,
Кормина 2015), благодаря чему Валаам не только стал направлением регуляр-
ных туристических паломничеств, но и привлек большое число людей, пере-
бравшихся сюда на постоянное место жительства. Когда в 1979 г. на архипелаге
создается государственный историко-культурный и природный заповедник, Ва-
лаам превращается в пространство активной деятельности. Здесь появляются со-
трудники Петрозаводского краеведческого музея, филиалом которого до 1984 г.
был заповедник, начинают работать реставрационные мастерские, археологи-
ческие экспедиции, биостанция Ленинградского университета. Каждое лето
сюда выезжает валаамский отряд московского отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Среди “новых” остро-
витян есть художники и музыканты, писатели и “эзотерики”, как их называет
один из моих собеседников.
Очевидное доминирование интеллигенции на острове в 1980-е годы7 созда-
вало эффект академгородка или наукограда, где интеллектуальная элита состав-
ляла большинство населения, а локальные идентичности конвертировались в
социальный статус и наоборот (Касаткина 2022). Однако, в отличие от атом-
ных городов, таких как Обнинск, или даже более открытых академгородков,
подобных Новосибирскому, Валаам был гораздо более независим от государ-
ственного планирования и управления, представляя собой свободную зону лич-
ных поисков и форм существования. Кроме того, даже в конце 1980-х годов
большой процент населения острова составляли люди, жившие здесь с после-
военных времен или отказавшиеся переезжать после ухода Дома инвалидов.
Судя по многим воспоминаниям, представители московской и ленинградской
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
51
интеллигенции считали себя валаамской “элитой” и с изрядной долей высоко-
мерия относились к “местным”. В то же время старожилы острова восприни-
мали приезжих интеллигентов как “временщиков” и “сезонников-дачников”, не
слишком считаясь с их мнением и запросами.
Социальное единство отсутствовало и в среде самих “интеллигентов”, боль-
шинство которых предпочитали автономное существование на острове. Для
многих из них Валаам был местом вненаходимости (Юрчак 2014) и аналогом
“ленинградской кочегарки”, где они могли заниматься творчеством, спрятав-
шись от всевидящего ока государства. Однако, в отличие от “кочегарки”, Вала-
ам был не просто местом бегства, он был местом активного делания и прило-
жения утопического воображения. Большинство этих людей бежали не просто
куда-то, а бежали именно на Валаам, потому что он виделся им пространством
особенной силы и духовности. Не представляя собой гомогенного сообщества,
объединенного уровнем образования, профессиональной специализацией или
даже общими интересами, валаамская интеллигенция была той самой публи-
кой, о которой писал М. Уорнер, определяя ее как “группу, существующую по-
стольку, поскольку к ней обращены тексты” (Warner 2002: 67). “Валаамский
текст”, утверждавший уникальную притягательность и силу места, становил-
ся социальным клеем, создающим и поддерживающим саму идею общности
интеллигенции благодаря общему чувству привязанности и принадлежности к
одной локальности - Валааму.
Люди, о которых дальше пойдет речь, представляют именно этот социаль-
ный слой валаамских жителей, приехавших на остров во второй половине 1980-
х годов и разделяющих веру в то, что Валаам - это уникальное место духовной
силы.
Личные биографии
Николай. Николай родился в 1961 г. в семье ленинградских архитекторов.
Его отец, в 1960-е годы увлекшийся йогой и индийской философией, приносил
с работы самиздатовские копии книг о восточной медицине и религии, а когда
Николай стал старше, он и сам заинтересовался этой литературой. Уже после
поступления в архитектурный институт Николай и его друзья встречались на
кухнях, обсуждали восточную философию и идеи переустройства общества.
У нас там архитекторы, тоже начитались книжки, - Рериха, Кастанеды, Блаватской -
ну в общем, вся вот эта философская вся движуха, которая была. И как-то вот так полу-
чилось, что мы решили с ребятами, - три семьи - мы решили: нехрен сидеть по кухням,
читать самиздат и трындеть на философские темы различные. Если мы такие умные,
такие классные, давайте попробуем построить тот мир, о котором мы говорим, что он
правильный. Ну, Город Солнца, - мы архитекторы - давайте, построим Город Солнца
(ПМА: Николай).
Сначала Город Солнца решили строить в Ленинградской области: три семьи
с детьми отправились в одну из деревень недалеко от Ленинграда и прожили
там целую зиму, обдумывая и планируя будущую коммуну. Но уже через год
стало понятно, что превратить мечты в реальность гораздо сложнее, чем каза-
лось на ленинградской кухне. Семьи разошлись в разные стороны. Николай с
женой и двумя маленькими детьми приехал на Валаам, куда его позвал прия-
тель, участвовавший в работе ленинградского отряда ВООПИК: “Он говорит,
слушай, там вот люди нужны, там это самое, там тоже жить есть где. Ну вот
52
Этнографическое обозрение № 1, 2023
есть, где жить. В принципе, замена Города Солнца на Валаам, в общем, как-то
так… (смеется)” (Там же). Перебравшись на Валаам, Николай устроился плот-
ником на реставрационный участок, через пару месяцев стал мастером, а еще
через полгода, после принятия в 1988 г. закона “О кооперации в СССР”, орга-
низовал на базе ремонтно-строительного участка (РСУ) объединение реставра-
торов - планировалось, что они будут работать независимо от музея на различ-
ных объектах Валаама. Создание кооператива было прямо связано с мечтами о
Городе Солнца:
Еще разочек: мы ехали строить ашрам под Питером. Когда мы пришли на Валаам, паяль-
ник никто не отключал. И идея создания Острова Солнца <…> Свербить-то продолжало,
и в общем-то те идеи, с которыми мы двинулись на Карельский перешеек, они же не
рассосались. Это же не была дань моде. Это были убеждения, это было мировоззрение -
это было “да, так надо делать, так правильно”. Мы отдышались, оклемались, зализали
раны, огляделись - давай-ка мы тут сбацаем, ха-ха. Остров классный. Остров - будет
Остров Солнца (Там же).
Кооператив должен был стать “блуждающей профессиональной общиной”:
То есть мы делаем кооператив “Мир”, здесь у нас хорошие специалисты-реставраторы.
Там, начиная с восстановления садов ландшафтных, мы берем в реставрацию… мы
хотели Белый скит первый взять. Мы берем скит в реставрацию, там живем, несколь-
ко лет реставрируем, восстанавливаем - пу-бум-пу-бум-пу-бум: зарабатываем, живем!
У нас тут сады, мы строим, расписываем, у нас тут фрески, там, все. Мы опять в льняных
рубахах по росе… (смеется) (Там же).
Этим планам тоже не суждено было сбыться. Отношения между кооперати-
вом и другими организациями, отвечавшими за реставрацию на острове, были
напряженными, однако стараниями Николая “Мир” получил несколько объек-
тов, обеспечивших кооператоров работой, - пусть и не в Белом скиту, но все
же из числа памятников архитектуры. “Да. Мы выжили, мы выжили, - говорит
Николай. - Мы выжили, и тут пришел мо-на-стырь” (Там же).
Биография Николая, как и все тексты такого рода, является двояким источ-
ником, одновременно рассказывающим об истории жизни на острове в конце
1980-х - 1990-е годы и о том, как эта жизнь была ретроспективно понята и
осмыслена. Николай вспоминает о Валааме не впервые. Сам он достаточно хо-
рошо известен среди последователей нью-эйдж, и в своих выступлениях, выло-
женных на различных Youtube-каналах, нередко возвращается к валаамскому
опыту.
Валаам оказывается в истории Николая не только пространственной, но и
темпоральной категорией. Именно с островом связаны воспоминания о наибо-
лее активном периоде жизни: реализации планов, воспитании детей, обустрой-
стве быта, исканиях и находках. Но что еще более важно, Валаам в этой расска-
занной биографии становится местом и временем обретения себя и становления
собой. Такая модель интерпретации валаамского прошлого не уникальна, она
совершенно типична для устных и письменных воспоминаний бывших жителей
архипелага. Валаамский текст, лаконично сформулированный В. Исаковым как
загадка очарованного странника, трансформируется в ретроспективных источ-
никах в историю о судьбоносности и предначертанности валаамского опыта.
“До появления в моей жизни острова Валаам, - пишет художник С.В. Бусахин,
который провел много сезонов на острове, - я жил в Москве с постоянным чув-
ством, что впереди меня ждет что-то необыкновенное, но что это такое, многие
годы оставалось для меня загадкой” (Бусахин 2020: 4).
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
53
Тамара. Биографическое значение валаамского прошлого еще более остро
ощущается в женской истории. Тамара, чей путь на остров тоже был непро-
стым, родилась в Казахстане, но в 1984 г. после окончания школы переехала
вслед за старшим братом в Ленинград. После трагической смерти брата Тама-
ра осталась в городе, она сильно переживала потерю, “и как раз там вот эта
творческая тусовка - художники, физики, математики, студенты вот эти все,
лирики…”. Тамара бросила институт, путешествовала с театром “Лицедеи”, с
которым и попала впервые на Валаам. В 1986 г. она поехала на остров в составе
ВООПИКовского отряда, а уже осенью 1987 г. решила здесь остаться. В тот год
пять девушек из летнего отряда независимо друг от друга приняли решение
переехать на остров. Перебравшись на Валаам, Тамара устроилась на работу
штукатуром-маляром.
В лесхоз я устраивалась. Еще долго думали, куда меня пристроить, потому что, ну что -
19 лет. Непонятно было, что будет, и вообще, что тут надо. А девчонки, которые с выс-
шим образованием, которые старше меня были и уже закончили, они тоже все штука-
турами-малярами. То есть у нас такая развлекаловка была. У Цоя - кочегарка, где он
зарабатывал на жизнь, а мы так развлекались (ПМА: Тамара).
Валаамский период жизни Тамара вспоминает как определяющий для себя:
“И плюс формирование вот это вот - с 19 лет ты 30 лет там прожил, вот это все
внутреннее формирование - оно прошло на Валааме, под воздействием больше
природы”. В этой биографии, в отличие от истории Николая, на первый план
выходит не реализация утопического проекта Города Солнца, а строительство
собственно жизни. Несколько раз во время разговора Тамара возвращается к
воспоминаниям о рождении детей:
Я все время говорила, знаете, у меня ведь, в принципе, история с Валаамом связана с
таким периодом деторождения. Потому что я быстренько вспоминаю дату, отсчитывая,
когда родился какой ребенок (смеется). Вот. Ну и в принципе у меня с первенца, - я же
вынашивала на Валааме первенца - и когда мне говорили, что я там делаю… вообще это
место считалось погибельным, ну вот на исходе совка. И изначально [называет имя] -
такой замечательный врач был московский, он говорит, что ты тут, - красивая, молодая -
езжай, говорит, отсюда, здесь женщины рожать не могут. А там действительно собралось
какое-то такое общество женское, которое по женской части у всех были какие-то сбои.
И я такая молодая, красивая, 19 лет, пышная - один ребенок, второй ребенок <…> Я все
время говорила, попробуйте вынашивать ребенка именно здесь на Валааме, потому что
благодать, она никуда не девается, она на всех, и на плохого, и на хорошего, - это как
солнце (Там же).
В этом рассказе соединяются две ключевые валаамские темы. С одной
стороны, Тамара говорит о Валааме сквозь призму собственной биографии.
А с другой - утверждает особые свойства самого острова: “Я в свое время гово-
рила, сейчас уже это поменялось, что на Валааме живешь, как у Христа за пазу-
хой” (Там же). Тамара использует слово “благодать”, к которому прибегает и в
других случаях, пытаясь объяснить все ту же загадку очарованного странника.
Переезд на удаленный остров и работа штукатуром-маляром как будто требуют
обоснования в контексте личной биографии, которое Тамара находит, говоря о
валаамской благодати или “духе валаамском”, связанных напрямую с особой
природной средой архипелага:
Меня спрашивают, чем отличается Валаам? Благодатью? Я хочу сказать, что Северное
Приладожье - оно по определению край благодати. Нету ни одного места, которое бы
благотворно не влияло на человека, даже очень суетливого, очень скверного, злого,
54
Этнографическое обозрение № 1, 2023
не знаю, несносного какого-то. Все равно природа - вот она сама благодать и есть.
И Валаам - в первую очередь, это природный объект, а потом уже культовый и религи-
озный (Там же).
Эпохальность валаамского опыта, его значение в личной истории, обосно-
вывается в воспоминаниях не только тем, что наиболее важные и деятельные
годы жизни пришлись именно на время пребывания на острове, но и тем, что
Валаам обладал своей собственной агентностью, способностью влиять на судь-
бы, характеры, личности всех, кто там оказывался. Как высказался Николай,
у Валаама такая аура, знаете, - она такая наркотическая, что ли. Потому что чисто пси-
хологически, когда человек пребывает в каком-то значимом месте, то он уже проецирует,
да, величие данной территории на свою, как бы, персону. Поэтому ты вроде бы прича-
стен к чему-то великому, к чему-то глубокому, к чему-то значимому (ПМА: Николай).
Воспоминания о валаамском периоде жизни нагружены символами причаст-
ности к этому особому духу, благодати или ауре места, которые не только ви-
дятся рассказчикам растворенными в воздухе Валаама, но и считаются особы-
ми знаками, отличающими его жителей от остальных людей: “…если человек
не готов принять вот эту благодать, идет процесс разрушения - очень сильный
причем. Но это надо понять” (ПМА: Тамара). Николай описывает эти разли-
чия иначе, через способность пережить трудные природные условия: “Зима на
Валааме - это считалось посвящение. Это считалось уровнем продвинутости.
То есть если ты зазимовал на Валааме - ну это статус, это солидняк! (смеется)”
(ПМА: Николай). Но Николай, также как и Тамара, вспоминает об особой из-
бранности и неслучайности тех, кто был “посвящен”. Благодать, духовность,
валаамский дух требовали особого понимания, способности его разглядеть,
принять и понять. Разного рода “эзотерики”, как их называет Николай, состав-
ляли, по его словам, “элитку” на острове, дистанцируясь и от местных жителей,
и от сотрудников заповедника. И Николай, и Тамара считают себя представи-
телями этого избранного круга, независимо от должностей, которые они зани-
мали. В своих отношениях с Валаамом они видят себя теми, кто был способен
увидеть и принять его ценность.
Такой взгляд на собственную жизнь и место, которое в ней отведено валаам-
скому опыту, во многом является следствием ретроспективной оценки прошло-
го, связанного с историей не только приезда и жизни на Валааме, но и последу-
ющего вынужденного отъезда с архипелага и необходимости обустройства на
новом месте.
Приход монастыря и разлом валаамской памяти
Валаамские истории обычно обрываются в точке, красноречиво обозначен-
ной Николаем словами “и тут пришел мо-на-стырь”. Эта граница почти всегда
выглядит очень точно локализованной во времени, разрезая линию жизни на
отрезки “до” и “после”. Временные вешки - “когда пришел монастырь” или “до
того, как пришел монастырь” - размечают воспоминания о жизни, создавая как
бы внешнюю хронологию, аналогичную той, с которой можно столкнуться в
любых воспоминаниях, нанизанных на большую ось исторических координат -
время большой истории (Паперно 2021: 22-29). Жизни, которая наступила по-
сле этого рубежа, рассказчики уделяют гораздо меньше внимания. Хотя отчасти
это связано с тем, что наши разговоры посвящены именно Валааму, существу-
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
55
ет и другая причина: валаамское время выступает как наиболее насыщенное и
значимое. “Приход монастыря” выполняет роль не просто темпоральной грани-
цы, при пересечении которой мы попадаем на следующий этап жизни человека,
а рубежа, отделяющего наиболее ценный личный опыт от всего остального.
Однако ни в историях жизни, ни в рассказах о ней “приход монастыря” не
был единовременным событием - определить его точную дату невозможно.
Процесс освоения острова религиозными структурами занял продолжительное
время. Первая группа монахов из Даниловского монастыря приехала сюда в
1989 г., почти сразу после обращения Советского фонда культуры, главой кото-
рого был Д.С. Лихачев, в ЦК КПСС с предложением о передаче зданий Валаам-
ского монастыря Русской православной церкви (Судьба Валаама 1989). Спустя
два года Верховный Совет КАССР принял официальное постановление о пере-
даче РПЦ центральной усадьбы монастыря и ряда других сооружений Спасо-
Преображенского мужского монастыря8. Потом на протяжении еще несколь-
ких лет происходила постепенная передача оставшихся зданий. В 1992 г. был
закрыт Валаамский историко-архитектурный и природный музей-заповедник,
а к концу 1990-х годов начала действовать программа по переселению мест-
ных жителей с Валаама9. В 2005 г. было ликвидировано Валаамское поселковое
управление, а территория архипелага была включена в состав Сортавальского
городского поселения.
Хотя “приход монастыря” обычно описывается в терминах воинственного
противостояния и острого конфликта между местными жителями и монасты-
рем, результатом чего стал кардинальный слом социального уклада и жизнен-
ной траектории, этот эпохальный разрыв никогда не ассоциируется с событиями
конца 1980-х годов. Воспоминания о появлении на острове первых монахов10
всегда проникнуты теплом, нежностью и отеческой заботой:
И был такой Варсонофий, приехал. Такой высокий двухметровый мужик - румяный,
кудрявый блондин. Борода кудрявая такая. Он такой большой, глаза - голубые глаза.
И у него такое одухотво… отличный мужик, но ребенок - такой огромный ребенок!
И вот он приехал возрождать Валаам - святую землю! (смеется) Вот такой вот! Прошла
зима. Весной (смеется) …а это они еще приехали зимой, еще все цивильно, у них еще
подрясники - все такое черненькое, красивое, еще не выгоревшее, не перестиранное,
не потрепанное, не порванное. Весной, значит, он: глаза шальные, борода всклокочен-
ная, треух, какая-то ушанка скособоченная, глаза безумные, фуфайка драная какая-то и
застиранный серый такой подрясник (смеется). Вот он, значит… то есть они приехали
настолько неприспособленные! Не то что там к какому-то подвижничеству - просто, вот
просто наладить свой житейский быт без мамок, теток и так далее. Вот я его… вот этот
светящийся, значит, лучезарный такой человек - а потом такая вот… помятый такой.
Шальные глаза, совершенно шальные. Он не понимает. Он не хозяин. Ему надо было…
а он не умеет ничего, он ребенок. Такой искренний такой ребенок - не ушлый, ничего.
Но вот к нему народ относился действительно - его как-то любили, что ли. Народ как-то
чувствует (ПМА: Николай).
Появление монашеской общины и начало богослужений в Спасо-Преобра-
женском соборе не стало знаком “захвата” или “вторжения”. Для валаамских
романтиков и эзотериков, студентов и университетских преподавателей это
был скорее знак либерализации и легализации собственных духовных поисков,
официальное “разрешение в открытую вот эту духовность свою искать”, как
выразилась Тамара. Воспоминания о первых службах в соборе всегда связаны с
трепетным ожиданием и идеей собственного приобщения:
56
Этнографическое обозрение № 1, 2023
И они так молились истово в нижнем храме. Тогда там две печки. Мы, когда еще ре-
ставрацию делали, восстановили две печи, которые должны были отапливать и верхний
собор, потому что у них там было всего четыре таких мощных печи огромных, две были
восстановлены. То есть там зимой хоть как-то еще можно было не замерзнуть. А там
склады были до этого - черные стены… с лампадкой этой… мы вот там восстановили
первый иконостас. Восстановили к приезду тогда еще не патриарха Алексия. Я букваль-
но помню, я бегу с этим самым семисвечником… там его покрасили, он сырой, я думаю,
пока добегу - высохнет. А уже Алексий идет по лесенке. Я вбегаю, ставлю семисвеч-
ник и быстро шмыг за угол (смеется). Ушел, чтоб не видно было. Раку первую делали,
Сергей делал такую. Сейчас же никто не помнит (ПМА: Николай).
В первых службах участвовали музейщики и работники РСУ, художники и
биологи, экскурсоводы и сотрудники коммунальных служб. “И нижний храм
был полный… местное население, вот, на службах, службы когда были, - храм
был полный. Полный! Народ ходил туда, это все действительно гонимое такое,
такое искреннее, настоящее такое вот. Лампады, бабульки, значит, там в краси-
вых платочках” (ПМА: Николай).
Более того, приход монахов был воспринят как один из возможных способов
решения проблемы валаамского наследия. От монахов многие ожидали эффек-
тивной структуры охраны острова, руководствующейся идеей сохранения его
главных ценностей - “духовности” и “благодати”. По воспоминаниям Николая,
“был момент, когда мы хотели, чтобы они пришли. Мы видели в них, ну, некое…
некую структуру, которая сохранила гармонию, нравственность, да, какие-то…
порядок”. На фоне постоянно оспариваемого авторитета заповедника монастырь
и Русская православная церковь были восприняты как имеющие более высокий
статус и лучше соответствующие особенностям самого валаамского наследия.
Выражение “приход монастыря” в рассказе Николая и других бывших жите-
лей Валаама отсылает не к истории появления первой монашеской коммуны на
острове, а к более поздним событиям, не имеющим точной временной привяз-
ки, но обозначающим скорее момент принятия решения о переезде. “Ну а по-
том стало ясно, что нам нужно уходить просто оттуда, что нам там перекрыли,
там перекрыли кислород”, - говорит Николай. Практически дословно эту фра-
зу повторяет и другой активный участник процесса восстановления острова в
1980-е годы: “Потому что уже понятно, что монастырь тут будет всех выселять.
Вот. Ну еще не в такой степени, но уже было понятно, куда политика вся эта
идет…” (ПМА: Игорь).
Пытаясь определить, когда и в связи с какими событиями отношения с мо-
настырем приобрели форму острого противостояния и ситуация была понята
как требующая неизбежного переселения, я встретила много разных вариантов.
Среди них было и закрытие музея (1992 г.), и передача монастырю так наз.
Зимней гостиницы, где располагались квартиры практически всех валаамских
жителей (2006 г.), и пожар в этом здании (2016 г.), де-факто лишивший жилпло-
щади сопротивлявшихся выселению валаамцев. И все-таки никто из рассказ-
чиков не называл какое-то определенное событие главной причиной отъезда.
Наоборот, все они утверждали, что самостоятельно приняли решение об отъезде,
поняв в какой-то момент, что он неизбежен.
Одна из особенностей любых травматических воспоминаний связана с по-
пыткой человека рассказать о своей травме и одновременно избежать репре-
зентации себя в качестве жертвы. Само понятие жертвы практически всегда
вызывает отторжение у рассказчиков, потому что определяет их как пассивных
участников, лишенных собственной воли. Попытка представить опыт вынуж-
денного переселения или депортации результатом выбора и принятого решения
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
57
служит одной из стратегий избегания статуса жертвы. Интерпретация в таком
ключе событий, непосредственно предшествовавших выселению с Валаама,
также позволяет решить эту непростую дилемму: в воспоминаниях о прошлом
мы видим не жертв обстоятельств, государства, РПЦ или монастыря, а тех, кто,
оценив ситуацию, решил выйти из нее тем или иным образом.
Все мои герои покинули остров - кто-то более или менее мирно в середине
1990-х или начале 2000-х годов, кто-то после продолжительных судебных тяжб,
обращений и публичных выступлений в 2016 г. Некоторые получили квартиры
в Сортавала, а кому-то, как говорят, даже удалось приобрести жилье в Санкт-
Петербурге. Но никто из них не хочет возвращаться на остров.
Невозможность возвращения
В своей книге о Черновцах М. Хирш и Л. Спитцер рассказывают истории
людей разных поколений, возвращающихся в полностью изменившийся за
несколько десятилетий город. Одни жили здесь когда-то, другие знают о нем
только от родителей, покинувших Черновцы много лет назад. Но и те и другие
пытаются обнаружить в ставшем чужим городе материальные следы и знаки
“своего” прошлого: изразцовую печь, все еще стоящую в квартире, чудом со-
хранившуюся дверь или хотя бы вид из окна, запечатленный на старой семей-
ной фотографии. Эти объекты служат не просто триггерами памяти, позволяю-
щими погрузиться в аффективное пространство воспоминаний, но становятся
доказательствами аутентичности прошлого, подтверждениями тому, что оно
действительно было и все еще принадлежит им (Hirsch, Spitzer 2010: 290-300).
Такая процедура аутентификации является важным инструментом создания и
воссоздания, материализации утраченного прошлого.
Воспоминания переселенцев с Валаама одновременно и следуют этой моде-
ли, и выворачивают ее наизнанку. В отличие от потомков жителей Черновцов,
как и многих других участников ностальгического туризма, бывшие жители
Валаама всячески подчеркивают свое нежелание возвращаться на остров.
“У меня жена туда ездит. Я не могу туда ездить”, - говорит Николай. “Не, не,
не… ну не… ну, это горестно смотреть, скажем так”, - восклицает Игорь, дру-
гой мой собеседник. “На сегодняшний Валаам… даже я не хочу возвращаться.
Я даже, знаете, какое-то время не могла водить экскурсии по Валааму - у меня
слезы катились”, - это слова Тамары.
Одним из объяснений такому настойчивому и демонстративному отказу
возвращаться может быть травматический эффект переживаний, связанных с
Валаамом. Боль провоцирует избегание, забвение, вытеснение. Аргументом в
пользу такого объяснения могли бы стать слова Николая: “И я сейчас <…> это
переживание, история моя, это боль моя, боль, которая была там”. В то же время
мы знаем много примеров возвращения людей в те места, которые были связа-
ны с трудным опытом и трагическими событиями. Более того, даже классиче-
ские теории травмы определяют ее как навязчивое повторение, возвращение
в те место и время, где и когда было совершено преступление. И, кроме того,
среди объяснений, которые дают сами рассказчики, можно встретить и прямо
противоположные: “Да и потом - нет желания. Нельзя возвращаться туда, где
было хорошо. Потому что все изменилось”, - так говорит бывший руководи-
тель ВООПИКовского отряда (ПМА: Игорь). Мне кажется, причины избегания
острова лежат в другой плоскости и связаны с особенностью той роли, какую
Валаам играет в воспоминаниях его бывших жителей.
58
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Память о месте исхода обычно прямо связана, с одной стороны, с практи-
ками поддержания и утверждения материальности этого места - различными
формами ностальгического туризма, а, с другой - с различными видами мемо-
риальной солидарности - деятельностью диаспор, генеалогическими сообще-
ствами и т.д. Как показывает Л. Малкки, локализация, или территориализация,
идентичности создается и утверждается ретроспективно, отвечая не реально-
сти прошлого, а нуждам настоящего (Malkki 1995). Эта же идея хорошо видна и
в коммеморативных практиках черновицких мигрантов, для которых “старый”
Черновиц существует постольку, поскольку существуют люди, разделяющие
веру в его существование (Hirsch, Spitzer 2010: 291). Подобная зависимость,
по мысли Л. Малкки, обусловлена общей идеей о том, что локальность являет-
ся важным источником культурной и социальной “самости” и, следовательно,
идентичности, позволяющим людям определять себя в связи с местом рожде-
ния или исхода.
Однако в случае с валаамскими переселенцами ситуация несколько иная.
Хотя все они очень остро переживают свою принадлежность к общей локаль-
ности - Валааму, эти переживания служат определению себя не столько в ло-
кальных, сколько в социальных терминах. Для них важно не то, что они были
“местными”, “коренными”, а то, что они были “валаамской публикой” - избран-
ными представителями интеллигенции, объединенными идеей о Валааме как
месте особой духовности и силы, и то, что смогли увидеть и понять его истин-
ную ценность. Локальная идентичность, конвертированная в социальную, опи-
рается в этом случае на подпорки в виде воспоминаний о собственном вкладе в
сохранение валаамского наследия, участии в его восстановлении и обживании,
а также совместном быте и общении, а глубокое переживание утраты связано не
с потерей пространства, которое все еще открыто для посещения, а с исчезно-
вением самой конфигурации людей и места, в которой локальность определяла
социальные принадлежность и статус.
“Сегодняшний” Валаам, хотя и называется так же, как “прежний”, и нахо-
дится в тех же географических координатах, отличается своей символической
биографией. В официальной летописи Валаамского монастыря в главе, посвя-
щенной 1940-1980-м годам и озаглавленной “Запустение”, в лаконичной форме
пересказывается история светского Валаама, которая заканчивается словами:
“[Здесь] предполагались устройство туристического аттракциона с канатной
дорогой и аэродромом, в соборе - зала органной музыки, строительство но-
вого поселка на 1000 жителей. По милости Божьей, этим планам не суждено
было сбыться” (Запустение 2015). Ни в этой истории, ни в самом пространстве
архипелага, облагороженном и благоустроенном в последние десятилетия, нет
места людям, которые когда-то составляли местную элиту и связывали свою
жизнь с Валаамом, считая себя хранителями его наследия. Отказывая этому но-
вому Валааму в праве считаться “настоящим”, его бывшие жители предпочита-
ют герметизацию воображаемого пространства острова в собственной памяти,
где оно сохраняется неизменным.
* * *
Пространство Валаама выглядит сегодня идеально гладким. Здесь не видны
разрывы, швы или складки времени, и только истинные знатоки смогут распоз-
нать в белом здании Зимнюю гостиницу, где когда-то жили сотрудники музея,
а в зданиях на Красном мысу - дома для инструкторов турбазы. Еще совсем
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
59
недавно паломническая служба, отвечающая за туристические потоки на остро-
ве, предлагала посетителям два вида поездок, представленные программами
“Валаам паломникам” и “Валаам туристам”. Сегодня архипелаг предстает
исключительно как территория “Русского Северного Афона”, сохраненно-
го и восстановленного благодаря “сонму святых подвижников и старцев”.
Не только на официальном сайте паломнической службы, но и на туристиче-
ском рынке поездка на Валаам рекламируется как возможность приобщиться
“к валаамской духовной традиции” (Валаамский паломник б.г.), “познакомить-
ся с знаменитым святым местом” (Легендарный Валаам 2022), прикоснуться
“к духовным истокам” (Туры и экскурсии 2022). История позднесоветского
Валаама не вписывается в каноническую летопись святой обители, укореня-
ющую действующий монастырь в традициях благочестия имперской святыни.
В этой истории не находится места тем, для кого остров ассоциируется с наи-
более активным периодом жизни и духовных исканий.
В отличие от глянцевой поверхности официальной истории архипелага, па-
мять его бывших обитателей полна противоречий и разрывов. Время жизни и
время истории переплетаются в их воспоминаниях о Валааме, который был для
них не просто красивой картинкой с подарочных открыток, а местом их соб-
ственных памяти и биографии. Невозможность отождествления двух Валаамов -
“своего”, личного, связанного с персональной историей, и “чужого”, нового,
из истории которого исключены не только люди, но и сам период их жизни и
работы, создает эффект герметизации прошлого в виде фантомного архипела-
га, куда никто не может и не хочет возвращаться.
Примечания
1 В 2021 г. компания РЖД запустила на остров мультимодальные маршруты,
поставив к Сортавальскому причалу собственные “Метеоры”. Но в 2022 г. они
снова исчезли из расписания и с пристани.
2 В современной историографии лучше всего описаны случаи Соловков
(Bogumił et al. 2015; Voronina, Bogumił 2018; Шторн, Бутейко 2016; Burgess
2007; Kraikovski, Lajus 2021) и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
(Kormina 2021; Dianina 2021).
3 Пик публикаций пришелся на 2007 и 2016 гг., связанные с наиболее остры-
ми периодами конфликта между руководством монастыря и местными жителя-
ми (Вольтская 2017; Валаам: битва 2015; Васюнин 2015; Яровой 2007; Сажнева
2017а, 2017б).
4 См. обзор историографии, связанной с понятием “дом” в контексте изуче-
ния миграции: Бредникова, Ткач 2010: 75-80.
5 См. подборку материалов, посвященных светским структурам на острове,
в альманахе “Сердоболь” (Валаам 2013).
6 Об истории и особенностях позднеимперской мифологии Валаама см:
Parppei 2011.
7 В 1989 г., согласно переписи, здесь проживали 487 человек (http://www.
demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php), почти половина которых были сотруд-
никами музея-заповедника.
8 Постановление Верховного Совета КАССР от 19 апреля 1991 г. № XII-6/167.
9 Первые квартиры жителям Валаама, переселяющимся в Сортавалу, были
предоставлены уже в 1999 г. (Краюхин 1999: 3).
60
Этнографическое обозрение № 1, 2023
10 Иеромонах Варсонофий (Капралов), Геронтий (Федоренко), Фотий
(Бегаль), иеродиакон Серафим (Гордеев), послушники Леонид Макаров и
Вадим Эрлих.
Источники и материалы
Бусахин 2020 - Бусахин С.В. Валаамские этюды. М.: Press-Book.ru, 2020.
Валаам 2013 - Сердоболь - городской альманах. 2013. № 13-14, Валаам под
красным флагом.
Валаамский паломник б.г. - Валаамский паломник: паломническая служба
(дата обращения: 26.07.2022).
Васюнин 2015 - Васюнин И. Взятие Зимней // Медиазона. 11.09.2015. https://
zona.media/article/2015/11/09/valaam
Воинская часть 2015 - Воинская часть на острове Валаам // Валаам. Официаль-
Вольтская 2017 - Вольтская Т. Хочу жить и умереть на Валааме // Радио Свобо-
иностранным агентом; дата включения в реестр иноагентов: 05.12.2017).
Воробьев 2020 - Воробьев О.Г. Легенды Валаама: очерки о людях архипелага.
Сортавала: [б.и.], 2020.
Груздев 2017 - Груздев С. Другой Валаам. Записки островитянина. Сортавала:
Сердоболь, 2017.
Запустение 2015 - Запустение. Валаам в 1940-80-е годы // Летопись. Валаам.
Официальный сайт Валаамского монастыря (последнее изменение:
Исаков 1984 - Исаков В. Прогулки по Валааму. М.: Советская Россия, 1984.
Краюхин 1999 - Краюхин С. Жителям Валаама предоставили квартиры на мате-
рике // Известия. 28.07.1999. № 137. С. 3.
Легендарный Валаам 2022 - Легендарный Валаам. Тур на Валаам на 1 день //
(дата обращения: 26.07.2022).
ПМА - Полевые материалы автора. Экспедиция в Сортавальский район Каре-
лии. Июнь 2021 г. (Информанты: Николай, 1963 г.р., ур. г. Санкт-Петербур-
га; Тамара, 1965 г.р., ур. Казахстана; Игорь, 1963 г.р., ур. г. Москвы).
Сажнева 2017а - Сажнева Е. Святой Валаам в огне: вопросом насильного вы-
селения жителей занялся омбудсмен // Московский комсомолец. № 27502.
22.09.2017а.
voprosom-nasilnogo-vyseleniya-zhiteley-zanyalsya-ombudsmen.html
Сажнева 2017б - Сажнева Е. Святой Валаам стал адским тупиком: жителей на-
сильно изгоняют с острова // Московский комсомолец. № 27460. 04.08.2017б.
zhiteley-nasilno-izgonyayut-s-ostrova.html
Судьба Валаама 1989 - Судьба Валаама. Актуальное письмо // Известия. 1989.
№ 258. С. 3.
Туры и экскурсии 2022 - Туры и экскурсии на Валаам из Санкт-Петербурга
26.07.2022).
Черевков 1960 - Черевков К. Славное море - Ладога // Огонек. 1960. № 31. С. 35.
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
61
Яровой 2007 - Яровой Г. “Битва за Валаам”: карельские ученые о проблеме
Научная литература
Большакова Г.И. Заложники новой границы: проблемы заселения и освоения
Карельского перешейка в 1940-1960 гг. СПб.: Астерион, 2009.
Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // Laboratorium. Журнал социальных
исследований. 2010. № 3. С. 72-95.
Веригин С.Г. Заселение и освоение бывших финских территорий Приладожья
после окончания Зимней войны // Сортавальский исторический сборник.
Вып. 1, Материалы международной научно-просветительской краеведче-
ской конференции “370 лет Сортавале” / Отв. ред. А.М. Пашков. Петроза-
водск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2005. С. 177-189.
Касаткина А.К. К поэтике и практике модерного урбанизма: “город-сад” как
технология социальной интеграции в Обнинске 1960-х годов // Laboratorium.
Журнал социальных исследований. 2022. Т. 14. № 1. С. 30-59.
Мельникова Е.А. (ред.) Граница и люди: воспоминания советских переселенцев
Приладожской Карелии. СПб: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петер-
бурге, 2005.
Мельникова Е.А. Инфраструктура дикой природы на территории Валаамского
монастыря: опыт субъективного освоения // Кунсткамера.
2021.
№ 1.
С. 208-222.
Паперно И. Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения.
М.: НЛО, 2021.
Смирнова Е.П. Заселение и освоение новых районов Карело-Финской ССР
в 1940-е годы. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Петрозаводский государ-
ственный университет, Петрозаводск, 2006.
Смолкин В. Свято место пусто не бывает: история советского атеизма / Пер.
с англ. О.Б. Леонтьевой. М.: НЛО, 2021.
Шторн Е., Бутейко Д. Борьба за ограниченное пространство памяти на Соловках //
Неприкосновенный запас. 2016. № 108 (4): 232-248.
Штырков С.А., Кормина Ж.В. “Это наше исконно русское, и никуда нам от этого
не деться”: предыстория постсоветской десекуляризации // Изобретение
религии: десекуляризация в постсоветском контексте / Науч. ред. Ж.В. Кормина,
А.А. Панченко, С.А. Штырков. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-
Петербурге, 2015. C. 7-45.
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколе-
ние. М.: НЛО, 2014.
Balkenhol M., van den Hemel E., Stengs I. Introduction: Emotional Entanglements of
Sacrality and Secularity-Engaging the Paradox // The Secular Sacred: Emotions
of Belonging and the Perils of Nation and Religion / Eds. M. Balkenhol, E.
van den Hemel, I. Stengs. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2020. P. 1-17. https://
doi.org/10.1007/978-3-030-38050-2_1
Basu P. Highland Homecomings: Genealogy and Heritage Tourism in the Scottish
Diaspora. L.: Routledge, 2007.
Bogumił Z., Moran D., Harrowell E. Sacred or Secular? “Memorial”, the Russian
Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet Repressions //
Europe-Asia Studies. 2015. Vol. 67 (9). P. 1416-1444.
62
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Burgess J.P. Community of Prayer, Historical Museum, or Recreational Playground?
Challenges to the Revival of the Monastic Community at Solovki, Russia //
International Journal for the Study of the Christian Church. 2007. Vol. 7. No. 3.
P. 194-209.
Dale R. The Valaam Myth and the Fate of Leningrad’s Disabled Veterans // The
Russian Review. 2013. No. 72. P. 260-284.
Darieva T. Rethinking Homecoming: Diasporic Cosmopolitanism in Post-Soviet
Armenia // Ethnic and Racial Studies. 2011. No. 34 (3). P. 490-508.
De Sas Kropiwnicki Z. Exile Identity, Agency and Belonging in South Africa: The
Masupatsela Generation. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.
Deek A.A. Writing Displacement: Home and Identity in Contemporary Post-Colonial
English Fiction. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2016.
Dianina K. Between Museum and Church: Remembering and Reinventing National
Heritage // Canadian Slavonic Papers. 2021. Vol. 63. No. 1-2. P. 72-95.
Fingerroos O. Karelia: A Place of Memories and Utopias // Oral Tradition. 2008.
No. 23 (2). P. 235-254.
Fortier A. Migrant Belongings: Memory, Space, Identity. Oxford: Berg, 2000.
Hirsch M., Spitzer L. Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory.
Berkeley: University of California Press, 2010.
Kleist J.O., Glynn I. (eds.) History, Memory and Migration: Perceptions of the Past
and the Politics of Incorporation. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2012.
Kormina J. “The Church Should Know Its Place”: The Passions and the Interests
of Urban Struggle in Post-Atheist Russia // History and Anthropology. 2021.
Vol. 32 (5). P. 574-595.
Kraikovski A., Lajus J. “The Space of Blue and Gold”: The Nature and Environment
of Solovki in History and Heritage // Place and Nature: Essays in Russian
Environmental History / Eds. D. Moon, N. Breyfogle, A. Bekasova. Winwick:
The White Horse Press, 2021. P. 37-68.
Laine A. Modernisation in the 1940s and 1950s in the Part of Karelia That Was Annexed
from Finland on March 1940 // Moving in the USSR: Western Anomalies and
Northern Wilderness / Ed. P. Hakamies. Helsinki: Finnish Literature Society,
2005. P. 19-41.
Lehrer E.T., Meng M. (eds.). Jewish Space in Contemporary Poland. Bloomington:
Indiana University Press, 2015.
Long L.D., Oxfeld E. Coming Home?: Refugees, Migrants, and Those Who Stayed
Behind. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
Luehrmann S. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a Volga
Republic. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
Malkki L.H. Purity and Exile: Violence, Memory and National Cosmology among the
Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
Marschall S. (ed.) Tourism and Memories of Home: Migrants, Displaced People,
Exiles and Diasporic Communities. Bristol: Channel View Publications, 2017.
Marschall S. (ed.) Memory, Migration and Travel. N.Y.: Routledge, 2018.
Parppei K. “The Oldest One in Russia”: The Formation of the Historiographical
Image of the Valaam Monastery. Leiden: Brill, 2011.
Rousselet K. Dukhovnost’ in Russia’s Politics // Religion, State and Society. 2020.
Vol. 48 (1). P. 38-55.
Sihvo H. Karelia: A Source of Finnish National Identity // National History and
Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-East
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
63
Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries / Ed. M. Branch. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. P. 181-201.
Smith A. Settler Sites of Memory and the Work of Mourning // French Politics,
Culture and Society. 2013. Vol. 31. No. 3. Special Issue, Algerian Legacies in
Metropolitan France. P. 65-92.
Thiranagama S. Moving on? Generating Homes in the Future for Displaced Northern
Muslims in Sri Lanka // Ghosts of Memory: Essays on Remembrance and
Relatedness / Ed. J. Carsten. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2007. P. 126-149.
Voronina T., Bogumił Z. Islands of One Archipelago: Narratives about the Solovetskie
Islands and the Memory of Soviet Repressions // Laboratorium: Russian Review
of Social Research. 2018. Vol. 10. No. 2. P. 104-121.
Warner M. Publics and Counterpublics. N.Y.: Zone Books, 2002.
Webber J. A Jew, a Cemetery, and a Polish Village: A Tale of the Restoration of
Memory // Jewish Space in Contemporary Poland / Eds. E.T. Lehrer, M. Meng.
Bloomington: Indiana University Press, 2015. P. 238-263.
R e s e a r c h A r t i c l e
Melnikova, E.А. Valaam Memory Breaks: Valaam’s Memorial Community
in Search of the Lost Island [Razlomy valaamskoi pamiati: memorial’noe
soobshchestvo Valaama v poiskakh utrachennogo ostrova]. Etnograficheskoe
EDN PMJKFG ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
European University at St. Petersburg (6/1a Gagarinskaya Str., St. Petersburg,
191187, Russia)
Keywords
heritage, anthropology of memory, displacement, oral history, traumatic past
Abstract
The article is focused on the memorial community of Valaam, which evolved after the
buildings of Valaam Monastery were handed over to the Russian Orthodox Church
and the locals were forced to leave the island. I turn to an analysis of a variety of
recollections and different forms of incorporating the history of the archipelago into
the personal biographies of its recent inhabitants. Considering Valaam as an essential
place of memory in the biographies of its former inhabitants, I try to answer the
question of why, unlike other migrants who return to their homeland in search of
traces of their past, the resettlers from Valaam refuse to come back, preferring to
speak of the island as lost and inaccessible. The article gives a brief history of the
post-war development of the archipelago, the emergence of a community of “keepers”
in the 1970s and 1980s, and traces several biographies of local residents whose youth
was linked to life and work on the island. Drawing on research on the memories of
migrants, I argue that the contemporary memory of the archipelago is a territory of
phantom pain caused not only by forced displacement, but also by the loss of the
former locals’ status as experts and defenders of the historical and cultural heritage
of Valaam. The article draws on field material from the years of 2020-2021.
64
Этнографическое обозрение № 1, 2023
References
Balkenhol, M., E. van den Hemel, and I. Stengs. 2020. Introduction: Emotional
Entanglements of Sacrality and Secularity-Engaging the Paradox. In The Secular
Sacred: Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion?, edited
by M. Balkenhol, E. van den Hemel, and I. Stengs, 1-17. New York: Palgrave
Basu, P. 2007. Highland Homecomings: Genealogy and Heritage Tourism in the
Scottish Diaspora. London: Routledge.
Bogumił, Z., D. Moran, and E. Harrowell. 2015. Sacred or Secular? “Memorial”,
the Russian Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet
Repressions. Europe-Asia Studies 67 (9): 1416-1444.
Bolshakova, G.I. 2009. Zalozhniki novoi granitsy: problemy zaseleniia i osvoeniia
Karel’skogo peresheika v 1940-1960 gg. [Hostages of the New Frontier: Problems
of Settlement and Development of the Karelian Isthmus in the 1940-1960s].
St. Petersburg: Asterion.
Brednikova, O., and O. Tkach. 2010. Dom dlia nomady [Home for the Nomad].
Laboratorium: Russian Review of Social Research 3: 72-95.
Burgess, J.P. 2007. Community of Prayer, Historical Museum, or Recreational
Playground? Challenges to the Revival of the Monastic Community at Solovki,
Russia. International Journal for the Study of the Christian Church 7 (3):
194-209.
Dale, R. 2013.The Valaam Myth and the Fate of Leningrad’s Disabled Veterans.
The Russian Review 72: 260-284.
Darieva, T. 2011. Rethinking Homecoming: Diasporic Cosmopolitanism in Post-
Soviet Armenia. Ethnic and Racial Studies 34 (3): 490-508.
De Sas Kropiwnicki, Z. 2017. Exile Identity, Agency and Belonging in South Africa:
The Masupatsela Generation. Cham: Palgrave Macmillan.
Deek, A.A. 2016. Writing Displacement: Home and Identity in Contemporary Post-
Colonial English Fiction. New York: Palgrave Macmillan.
Dianina, K. 2021. Between Museum and Church: Remembering and Reinventing
National Heritage. Canadian Slavonic Papers 63 (1-2): 72-95.
Fingerroos, O. 2008. Karelia: A Place of Memories and Utopias. Oral Tradition
23 (2): 235-254.
Fortier, A. 2000. Migrant Belongings: Memory, Space, Identity. Oxford: Berg.
Hirsch, M., and L. Spitzer. 2010. Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz
in Jewish Memory. Berkeley: University of California Press.
Kasatkina, A.K. 2022. K poetike i praktike modernogo urbanizma: “gorod-sad”
kak tekhnologiia sotsial’noi integratsii v Obninske 1960-kh godov [Poetics
and Practice of Modern Urbanism: ”Garden City” as a Technology of Social
Integration in Obninsk in the 1960s]. Laboratorium: Russian Review of Social
Research 14 (1): 30-59.
Kleist, J.O., and I. Glynn, eds. 2012. History, Memory and Migration: Perceptions of
the Past and the Politics of Incorporation. New York: Palgrave Macmillan.
Kormina, J. 2021. “The Church Should Know Its Place”: The Passions and the
Interests of Urban Struggle in Post-Atheist Russia. History and Anthropology 32
(5): 574-595.
Kraikovski, A., and J. Lajus. 2021. “The Space of Blue and Gold”: The Nature and
Environment of Solovki in History and Heritage. In Place and Nature: Essays
in Russian Environmental History, edited by D. Moon, N. Breyfogle, and
A. Bekasova, 37-68. Winwick: The White Horse Press.
Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама...
65
Laine, A. 2005. Modernisation in the 1940s and 1950s in the Part of Karelia That
Was Annexed from Finland on March 1940. In Moving in the USSR: Western
Anomalies and Northern Wilderness, edited by P. Hakamies, 19-41. Helsinki:
Finnish Literature Society.
Lehrer, E.T., and M. Meng, eds. 2015. Jewish Space in Contemporary Poland.
Bloomington: Indiana University Press.
Long, L.D., and E. Oxfeld. 2004. Coming Home?: Refugees, Migrants, and Those
Who Stayed Behind. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Luehrmann, S. 2011. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a
Volga Republic. Bloomington: Indiana University Press.
Malkki, L.H. 1995. Purity and Exile: Violence, Memory and National Cosmology
among the Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of Chicago Press.
Marschall, S., ed. 2017. Tourism and Memories of Home: Migrants, Displaced
People, Exiles and Diasporic Communities. Bristol: Channel View Publications.
Marschall, S., ed. 2018. Memory, Migration and Travel. New York: Routledge.
Melnikova, E.A. 2005. Granitsa i liudi: vospominaniia sovetskikh pereselentsev
Priladozhskoi Karelii [The Border and the People: Memories of Soviet Resettlers
of Ladoga Karelia]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v
Sankt-Peterburge.
Melnikova, E.A. 2021. Infrastruktura dikoi prirody na territorii Valaamskogo
monastyria: opyt sub’ektivnogo osvoeniia
[Wildlife Infrastructure on the
Territory of the Valaam Monastery: The Experience of Subjective Exploration].
Kunstkamera 1: 208-222.
Paperno, I. 2021. Sovetskaia epokha v memuarakh, dnevnikakh, snakh. Opyt chteniia
[The Soviet Epoch in Memoirs, Diaries, Dreams: Experience of Reading].
Moscow: NLO.
Parppei, K. 2011. “The Oldest One in Russia”: The Formation of the Historiographical
Image of the Valaam Monastery. Leiden: Brill.
Rousselet, K. 2020. Dukhovnost’ in Russia’s Politics. Religion, State and Society
48 (1): 38-55.
Shtorn, E., and D. Buteyko. 2016. Bor’ba za ogranichennoe prostranstvo pamiati na
Solovkakh [Struggle for Limited Memory Space on Solovki]. Neprikosnovennyi
zapas 108 (4): 232-248.
Shtyrkov, S.А., and Z.V. Kormina. 2015. “Eto nashe iskonno russkoe, i nikuda nam
ot etogo ne det’sia”: predystoriia postsovetskoi desekuliarizatsii [“This is Our
Originally Russian, and We Can’t Get away from It”: The Prehistory of Post-
Soviet Desecularization]. In Izobretenie religii: desekuliarizatsiia v postsovetskom
kontekste [The Invention of Religion: Desecularization in the Post-Soviet
Contex], edited by Z.V. Kormina, A.A. Panchenko, and S.A. Shtyrkov, 7-45. St.
Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
Sihvo, H. 1999. Karelia: A Source of Finnish National Identity. In National History
and Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-
East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries, edited by M. Branch,
181-201. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Smirnova, E.P. 2006. Zaselenie i osvoenie novykh raionov Karelo-Finskoi SSR v
1940-e gody [Population and Development of New Areas of the Karelian-Finnish
SSR in the 1940s]. PhD diss. abstract, Petrozavodsk State University.
Smith, A. 2013. Settler Sites of Memory and the Work of Mourning. French Politics,
Culture and Society 31 (3). Special Issue, Algerian Legacies in Metropolitan
France: 65-92.
66
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Smolkin, V. 2021. Sviato mesto pusto ne byvaet: istoriia sovetskogo ateizma [Holy
Place is Never Empty: History of Soviet Atheism]. Moscow: NLO.
Thiranagama, S. 2007. Moving on? Generating Homes in the Future for Displaced
Northern Muslims in Sri Lanka. In Ghosts of Memory: Essays on Remembrance
and Relatedness, edited by J. Carsten, 126-149. Hoboken: Wiley-Blackwell.
Verigin, S.G. 2005. Zaselenie i osvoenie byvshikh finskikh territorii Priladozh’ia
posle okonchaniia Zimnei voiny [Settlement and Development of the Former
Finnish Territories at Ladoga Area after the Winter War]. In Sortaval’skii
istoricheskii sbornik
[Sortavala History Collection]. Vyp.
1, Materialy
mezhdunarodnoi nauchno-prosvetitel’skoi kraevedcheskoi konferentsii “370 let
Sortavale” [Materials of the International Academic, Educational, and Local
History Conference “370 Years of Sortavala”], edited by A.M. Pashkov, 177-189.
Petrozavodsk: Izdatel’stvo Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta.
Voronina, T., and Z. Bogumił. 2018. Islands of One Archipelago: Narratives about
the Solovetskie Islands and the Memory of Soviet Repressions. Laboratorium:
Russian Review of Social Research 10 (2): 104-121.
Warner, M. 2002. Publics and Counterpublics. New York: Zone Books.
Webber, J. 2015. A Jew, a Cemetery, and a Polish Village: A Tale of the Restoration
of Memory. In Jewish Space in Contemporary Poland, edited by E.T. Lehrer and
M. Meng, 238-263. Bloomington: Indiana University Press.
Yurchak, A. 2014. Eto bylo navsegda, poka ne konchilos’: poslednee sovetskoe
pokolenie [It was Forever Until It Was No More: The Last Soviet Generation].
Moscow: NLO.