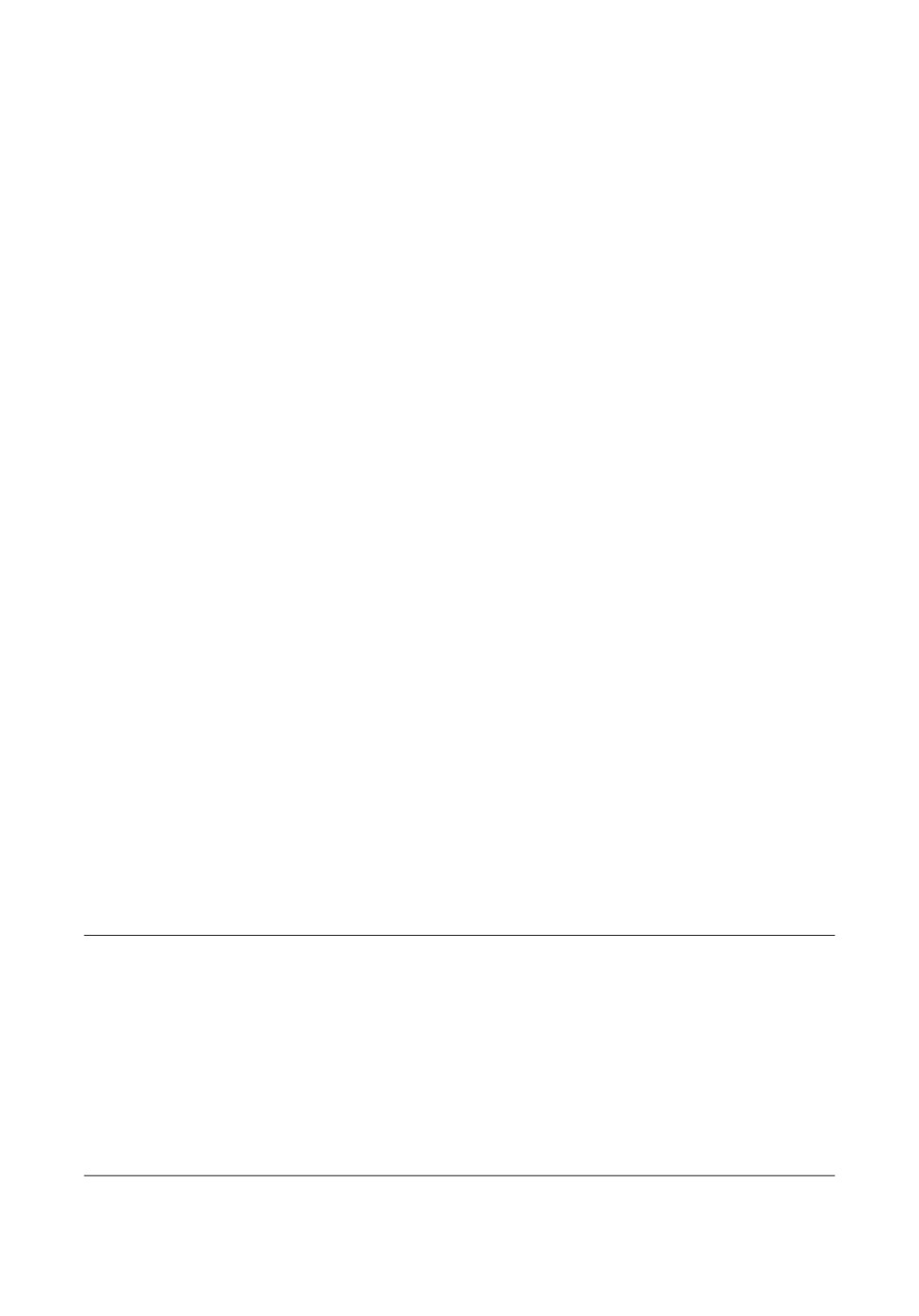“МЕДАЛИ, КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ ГОРДИТЬСЯ…”:
ПАМЯТЬ О КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В.А. Танайлова
Валентина Александровна Танайлова
|
|
v.tanaylova@iea.ras.ru | исследователь-стажер | Институт этнологии и антропологии РАН
(Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)
Ключевые слова
Кавказская война, память о Кавказской войне, инструментализация памяти, травматиче-
ская память, память в социальных сетях, радикализация
Аннотация
В статье рассматривается память о Кавказской войне в пространстве социальных сетей
(ВКонтакте, Telegram и др.) и возможности ее использования в качестве символического
ресурса в процессе радикализации местных кавказских обществ. Суммарно количество
подписчиков исследованных сообществ, каналов и страниц около 300 тыс. человек. Кон-
цептуальной основой работы выступает реляционный подход к понятию радикализации.
Кроме того, автор рассматривает память, как один из символических ресурсов, опреде-
ляющих процесс радикализации того или иного сообщества, и ссылается на таких ис-
следователей, как Л.-Э. Сидерман, Дж. Гудвин, М. Сейджман. В работе исследуется не
просто память о Кавказской войне, представленная в поле социальных сетей, а несколько
национальных образов Кавказской войны, которые в этом поле сформировались.
Информация о финансовой поддержке
Статья публикуется в соответствии с планом НИР ИЭА РАН
этой работе я ставлю перед собой задачу проанализировать память о
Кавказской войне в пространстве социальных сетей и возможности ее
В
использования в качестве символического ресурса в процессе радикали-
зации местных кавказских обществ. Рассматриваются материалы, собранные
преимущественно на онлайн-платформах ВКонтакте, Telegram и др. Источни-
ками информации стали сообщества, посвященные истории Кавказского регио-
на и его культуре, в том числе группы, специализирующиеся на новостном фор-
мате, и несколько личных страниц со значительным количеством подписчиков1.
Суммарная аудитория исследованных мной ресурсов составляет около 300 тыс.
человек. В ходе работы были отобраны те сообщества, которые отображались
Статья поступила 15.09.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.11.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”: память о Кавказской войне в социальных
EDN PMKYIK
Tanaylova, V.A.
2023.
“Medali, kotorymi nel’zia gordit’sia…”: pamiat’ o Kavkazskoi voine v
sotsial’nykh setiakh [The “Medals not to be Proud of…”: Memory of the Caucasian War in Social Media].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
68
Этнографическое обозрение № 1, 2023
в результатах поиска внутри социальных сетей по запросу “Кавказская война”
и имели более 20 тыс. подписчиков, наиболее активные из которых в абсолют-
ном большинстве случаев репрезентовали себя как представителей различных
народов Северного Кавказа. Во многих группах посты предлагаются самими
подписчиками, затем отбираются и редактируются администраторами, после
чего размещаются на стене. Что касается анализируемых в данной работе сю-
жетов, то они полностью соответствуют существующим в нецифровом мемори-
альном пространстве Северного Кавказа, что подтверждается моими полевыми
материалами и исследованиями моих коллег.
В статье не рассматриваются официальная историография Кавказской
войны и политика памяти в разных республиках Северного Кавказа - это темы
отдельных исследований. Меня интересуют те публикации в социальных сетях,
которые создаются акторами, не являющимися учеными или политиками. В ос-
нове многих постов лежат отрывки из исторических трудов или источников,
но отбираются они и интерпретируются вне пространства профессиональной
истории. Политика памяти также остается за рамками этой работы, поскольку
меня интересует в первую очередь то, как память “проживается” обществом,
а не то, как она формируется с помощью официальных инструментов. Я не ана-
лизирую правительственные страницы, публикации политиков, государствен-
ные коммеморации и т.п. Хотя, несомненно, политика памяти является чрезвы-
чайно важной смежной темой. О.Ю. Малинова утверждает:
Переоценка коллективного прошлого с учетом изменившегося контекста - в первую оче-
редь задача профессиональных историков. Однако и политики выполняют свою часть
работы: они не только апеллируют к прошлому, участвуя в его интерпретации, но и име-
ют возможность формировать “инфраструктуру” коллективной памяти. К примеру, регу-
лировать содержание школьных программ и учебников, вносить изменения в календарь
праздников и памятных дат, учреждать государственную символику и награды, регла-
ментировать официальные ритуалы и проч. (Малинова 2015: 8).
Очевидно, что те подписчики и администраторы сообществ в соцсетях,
которые участвуют в создании цифровых коммемораций, их воспроизведении,
трансформации и т.д., не могут находиться за пределами влияния политики па-
мяти в различных ее проявлениях.
Рассматривая социальные сети как исследовательскую область цифровой
антропологии, я соглашусь с подходом И. Утехина, который говорит, что “фун-
даментально методы в области цифровой антропологии не отличаются от тра-
диционных качественных этнографических исследований. Все те качественные
методы, которые касаются включённого наблюдения с разными степенями и
формами включённости, всё это остаётся релевантным” (Утехин б.г.). Однако
тут возникает вопрос: в какой момент пространство социальных сетей стано-
вится полем, а когда мы работаем с ним как с архивом. “На уровне повседнев-
ного использования под вхождением в поле и в социологии, и в антропологии
обычно понимается не просто факт физического проникновения на опреде-
ленную территорию, а установление контакта с кем-либо из информантов”
(Козловская б.г.). Это утверждение верно и для цифровой антропологии. Однако
на текущей стадии моего исследования социальные сети все же чаще выступа-
ли для меня в качестве архива. И, как и при работе с любым другим архивом,
необходимо понимать, что цифровой его аналог по целому ряду причин не ото-
бражает в полной мере состояние общества здесь и сейчас. Аудитория соцсетей
имеет свои особые характеристики - возрастные, социальные и проч. Конеч-
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
69
но, их необходимо учитывать в ходе анализа. Тем не менее то, что является
для исследователя полем или архивом, в современном мире для пользователя
становится важнейшим коммуникационным пространством, которое оказыва-
ет огромное влияние на общество и развивающиеся в нем процессы (Pentland
2014; Haidt, Rose-Stockwell 2019; Почепцов 2018, 2019, 2020).
Радикализация
В качестве концептуальной основы я возьму определение радикализации,
которое дает в одной из работ Д. делла Порта: “Радикализация - это эскала-
ция действий от ненасильственного их репертуара ко все более жестким акци-
ям насильственного характера. Радикализация осуществляется путем сложного
набора взаимодействий, которые разворачиваются с течением времени” (della
Porta 2018: 462). То есть радикализация - это процесс, являющийся результа-
том взаимоотношений отдельных лиц, групп и институциональных субъектов.
Я соглашусь с мнением Д. делла Порта о том, что методология изучения ради-
кализации требует междисциплинарного подхода к анализу насилия/конфлик-
та на всех уровнях и во всех областях взаимодействия, в том числе в области
символического. Классические исследования процесса радикализации обычно
проходят на двух уровнях. На макроуровне (исследования терроризма, полито-
логия) речь идет о политических процессах, структурных изменениях, культур-
ных особенностях сообществ (Ibid.). На микроуровне (социальная психология)
обычно рассматриваются индивидуальные уязвимость и недовольство, психо-
патические особенности личности и т.д. Реляционная же перспектива выступа-
ет альтернативой традиционным подходам.
Существует несколько важных факторов, определяющих процесс радикали-
зации тех или иных сообществ: политические возможности, организационные
ресурсы и ресурсы символические, причем к последним следует отнести соци-
альную память (Sageman 2004, 2008; Wiktorowicz 2004; McCauley, Moskalenko
2008; Hegghammer 2006). Как замечает Дж. Гудвин, коллективные травмы и
обиды сами по себе могут стать толчком к началу процесса радикализации
сообществ (Goodwin 2004). В этом смысле память о Кавказской войне может
быть избранной травмой. Эта память в связке с памятью о других травматиче-
ских исторических событиях в разных республиках Кавказа может способство-
вать формированию сильного контекста для радикализации отдельных групп.
Согласно предложенной В. Волканом концепции избранной травмы (chosen
trauma), травмированное сообщество может иметь особый менталитет, при ко-
тором в основе идентичности лежит память о трагедии:
Некое событие заставляет большую группу людей почувствовать себя беспомощной
жертвой другой группы, испытать унижение от обиды или причиненного вреда. Трав-
мированная таким образом группа избирает путь психологизации и мифологизации
“рокового” для нее события. Она как бы встраивает его образ в самую основу своей
идентичности, и сопутствовавшие ему чувства боли и позора передаются в нации от по-
коления к поколению в качестве маркера ее этнической идентичности. И с того момента,
как реальная травма трансформировалась в “избранную травму”, подлинные историче-
ские факты перестают играть какую-либо роль. Сохраняет значение лишь их психоло-
гическое преломление в качестве центрального стержня чувства этнической общности
(Волкан, Оболонский 1992: 41).
Схожие идеи развивает и Дж. Александер в работе, посвященной понятию
культурной травмы (Александер 2012).
70
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Рассуждая о теракте, который произошел 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке,
Ю. Зинченко, Г. Солдатова и Л. Шайгерова пишут о том, что после тех событий
перед всем миром встала дилемма:
Люди задумались: какой выбор сделать - в пользу толерантности к отличающимся “дру-
гим” или в пользу безопасности “своих”. Этот момент стал поворотным в истории и по-
литике, по крайней мере, одной страны. По мнению аналитиков, он привел к обострению
длительного противостояния между двумя фундаментальными демократическими цен-
ностями американского общества: обеспечением безопасности и защитой гражданских
свобод (Зинченко и др. 2011: 98).
Идея противоречия между безопасностью и гражданскими свободами при-
менима не только к американскому, но и к российскому обществу. Это выбор
между правом “других” на свою историю и свою память и правом “своих” на
безопасность. Демократизация пространства памяти является неотъемлемой
частью демократизации как общеполитического процесса внутри государства.
Однако между правом на “самость” и правом на безопасность очень тонкая
грань, поскольку “самость” строится в том числе и на памяти о событиях трав-
матичных, связанных с каким-то конфликтом, что наделяет их потенциалом для
формирования внутри этой памяти нарративов, способных поддержать новые
конфликты. Конечно, право на свою историю, даже полную противоречий, не
всегда означает радикализацию, тем более какие-либо насильственные дей-
ствия. Каждый случай, каждый конфликт, каждая память уникальны. Нужно
суметь понять, прочувствовать все острые углы, не прибегая к чрезмерным
обобщениям и упрощениям. В одной из работ С. Каливаса рассматривается
упомянутая выше дилемма безопасности, автор указывает на то, что она сама
по себе способна спровоцировать конфликт, поскольку желание предотвратить
насилие порождает насилие в форме превентивных мер (Kalyvas 2006). Наи-
более значимым фактором, влияющим на ход развития событий в ходе моби-
лизации сообщества, могут оказаться действия, которые предпринимает госу-
дарство. Именно от них в ключевой момент зависит, будет ли запущен процесс
радикализации определенной части общества и будут ли открыты возможности
для возникновения конфликта. Чем жестче действия репрессивного характера
со стороны государства, тем острее ответная реакция радикализирующегося со-
общества (Cederman et al. 2013). Мнение, что радикализация всегда приводит
к терроризму и экстремизму, - это заблуждение. Однако радикализм (как часть
культурно-исторического контекста) можно рассматривать в качестве одного из
возможных источников вовлечения в террористическую активность.
Не все радикалы становятся террористами, но многие террористы начинали свою дея-
тельность с радикализма. Приоритетной задачей здесь является выявление психологиче-
ских условий трансформации радикальных политических движений в экстремистские.
Радикализм обычно связан с идеями и представлениями о необходимости кардинального
и решительного переустройства существующих социально-политических отношений в
обществе. Радикализм предполагает отрицание существующей структуры обществен-
ных отношений и выдвижение новой - альтернативной, которая рассматривается как
единственно возможная и правильная в сложившейся несправедливой и неприемлемой
социально-политической действительности (Зинченко и др. 2011: 102).
Очевидно, что радикализм и экстремизм - это два разных явления. Но суще-
ствует разброс мнений относительно того, как они соотносятся друг с другом.
Широкое распространение получило представление о том, что они проявляют-
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
71
ся в разных сферах: радикализм - в сфере идей, экстремизм - в сфере действий.
Однако мне это представление не кажется верным. Экстремизм, несомненно,
может включать в себя и радикальную деятельность. По мнению политолога
М.К. Арчакова, “четким критерием, разграничивающим политический радика-
лизм и политический экстремизм, является применение экстремистами нелеги-
тимного противоправного насилия” (Арчаков 2016: 50-51).
Память: уточнение понятий
В одной из своих работ П. Хаттон писал: “Когда я начал заниматься па-
мятью, я обнаружил, что эта тема была квинтэссенцией междисциплинарных
интересов. Это была тема для всех, однако ни у кого не было на эту тему преи-
мущественного права” (Хаттон 2004: 9). Исследования памяти - это поле, в ко-
тором сходятся научные поиски психологов, философов, социологов, социаль-
ных антропологов, политологов, литературоведов, историков и т.д. - среди них
много громких имен: М. Хальбвакс, М. Фуко, П. Нора, П. Хаттон, Я. Ассман и
А. Ассман и др. Местоположение темы памяти на стыке наук и значительное
количество несхожих между собой подходов породили, соответственно, оби-
лие концепций, теорий, взглядов. Разными исследователями давались разные
определения памяти коллективной, памяти исторической, памяти социальной и
памяти культурной. По словам историка Л.П. Репиной,
[п]онятие “историческая память”, как и концепт “коллективная память”, не только у раз-
ных авторов, но и у одного и того же автора в разновременных публикациях и иногда
даже в одной и той же работе может употребляться в значении “общий опыт, пережитый
людьми совместно” (речь может идти и о памяти поколений), и более широко - как груп-
повая память. “Историческая память” понимается как коллективная память (в той мере,
в какой она вписывается в историческое сознание группы) или как социальная память
(в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание общества), или в целом -
как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых
представлений социума об общем прошлом (Репина 2005: 131).
С определением социальной памяти как памяти общества можно, однако,
поспорить. Ряд исследователей утверждает, что социальная память (также как
и историческая память, по Л.П. Репиной) вполне вписывается и в историческое
сознание социальной группы. Российский археолог, этнограф и антрополог
В.А. Шнирельман определяет социальную память следующим образом:
Проблематика социальной памяти много шире, чем историография. Историография го-
ворит о движении научной мысли, а социальная память - о том, что, как и почему об-
щество помнит. Или, напротив, о чем оно не хочет помнить и что всячески стремится
забыть (феномен амнезии). Источники изучения социальной памяти необычайно много-
образны. Отчасти это исторические труды, но также школьные учебники, музеи, топо-
нимика, памятники и памятные места, художественные произведения, кинофильмы, ри-
туалы, праздники, юбилеи исторических личностей, городов, республик, а также версии
прошлого, которые даются СМИ (Шнирельман 2018: 12).
А французский историк-медиевист Б. Гене пишет:
Социальная группа, политическое общество, цивилизация определяются прежде всего
их памятью, то есть их историей, но не той историей, которая была у них в действитель-
ности, а той, которую сотворили им историки… Меня интересует историк, но еще боль-
ше его читатели; исторический труд, но еще больше его успех; история, но еще больше
историческая культура (Гене 2002: 19).
72
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Опираясь на то, что “создали историки”, память о прошлом в социальных
сетях продолжает свой бесконечный путь трансформаций, поскольку оказыва-
ется в том числе и плодом неограниченного во времени и пространстве коллек-
тивного действия. Сама структура социальной сети обуславливает то, что вся
совокупность высказываний может стать частью новой памяти.
В принципе, можно рассматривать социальную память как некое выражение коллек-
тивного опыта: социальная память идентифицирует группу, дает ей чувство прошлого
и определяет ее устремления на будущее. Осуществляя это, социальная память часто
опирается на какие-то события прошлого. История той или иной общности людей, как
разделяемая ее членами версия коллективного прошлого, является основой групповой
идентичности (Репина 2005: 144).
Следует иметь в виду, однако, что память - лишь одна из основ групповой
идентичности, но существуют и другие.
В кавказских обществах Кавказская война оказывается важным событием, о
котором знают и помнят. Другое дело, что именно о ней знают, как расставляют
акценты, что “помнят”, а что конструируют заново, отчасти исходя из современ-
ных реалий. В попытках ответить на эти вопросы мной была не просто частич-
но исследована память о Кавказской войне, представленная в поле социальных
сетей, а проанализированы несколько национальных образов Кавказской войны,
которые в этом поле сформировались, интерпретация этих образов, их соци-
альный и политический смыслы. Каждый такой образ служит одним из много-
численных элементов построения соответствующий групповой идентичности,
которая, в свою очередь, определяет оппозицию “свой-чужой”, где в качестве
чужого может выступать как любое другое соседнее кавказское сообщество, так
и “русские завоеватели”. В этих образах очень многое разнится: датировки, глав-
ные события, герои и предатели. Я выделю ключевые моменты дискурса о Кав-
казской войне в социальных сетях, вокруг которых идут самые острые прения и
которые сопровождаются высказываниями радикального характера.
Роль Российской империи в Кавказской войне
Начну с того, что вызывает менее всего споров, но оказывается темой, кото-
рая, с точки зрения подписчиков соцсетей, проводит очевидный рубеж между
Кавказом и Россией. Речь идет о месте Российской империи в Кавказской вой-
не. Тут все однозначно: Российская империя - “захватчик, оккупант и тиран”.
Современная Россия является наследником имперских амбиций и идеалов и, по
сути, продолжает политику притеснения кавказских народов: “История повто-
ряется… генерал-губернаторы были при царях, вот и снова и царь и генерал-гу-
бернаторы… опять карательные экспедиции, так же сжигание аулов, только те-
перь домов” (Online: Северный Кавказ). Надо заметить, что среди вступающих
в полемику, тех, кто говорит от лица русских, крайне мало, поэтому какие-либо
споры по этому вопросу возникают редко. Основными сюжетами, вызываю-
щими активные отклики подписчиков, оказываются те, что связаны с деятель-
ностью генералов А.П. Ермолова и Г.Х. Засса (Шнирельман 2006). Последний
более всего известен в социальных сетях тем, что отрубал адыгам головы и на-
саживал их на копья, а также рассылал отрубленные головы в различные музеи
России и Европы. В целом отношение к завоевателям Кавказа выражает такой
комментарий одного из подписчиков: «“Дикие” кавказцы, которым эти генера-
лы несли свою “культуру” никогда не позволяли себе ни глумления над павшим
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
73
противником, ни надругательства над женщинами. Так кто же тут “полудикари”
и “варвары”? Какую культуру принесли эти нелюди, “благородные” русские ге-
нералы?» (ВКонтакте: Черкесский ренессанс).
Высказываний относительно русского народа в целом - немного, откровен-
но оскорбительных еще меньше. Отчасти это вызвано тем, что записи оскор-
бительного и тем более националистического характера удаляются. Более того,
употребление нецензурных выражений часто встречают неодобрение у других
подписчиков из числа самих же кавказцев. Они считают, что это выставляет
их в невыгодном свете, демонстрируя низкую культуру. Однако это не меша-
ет активно оставлять комментарии типа: “Давайте дальше любить тот народ
[русских], который пытался нас когда-то уничтожить… Обращаюсь ко всем кав-
казцам поймите вы все русские нам враги, а не друзья…” (ВКонтакте: История
Кавказа). Иногда на подобные высказывания подписчики отвечают, что Кавказ
завоевывала “российская власть” и русский народ не имеет к этому никакого
отношения. Таким образом, происходит некоторое различение между “россий-
ской властью” и “русским народом”.
Бурную реакцию вызывают посты о представителях кавказских народов,
которые служили в армии Российской империи, и об их наградах. Так, одно из
сообщений, размещенных в ленте группы, было посвящено наградам Россий-
ской империи времен Кавказской войны и озаглавлено “Медали, пропитанные
кровью, медали, которыми нельзя гордиться…”. Кавказцы, служившие Россий-
ской империи, называются предателями, запятнавшими честь своего народа.
Интересно заметить, что тема служения Русскому государству часто перетекает
в обсуждениях в русло современных событий, и тут больше всего осуждения
изливается на осетин и чеченцев: “Так ты осетин, ну все с тобой ясно… Там
же в Осетии русских любят больше, чем своих” (ВКонтакте: История Кавказа),
“А Осетия, тем временем была и остается форпостом России” (Там же), “Ты
добровольный раб Кадырова, а значит раб российской власти” (ВКонтакте:
Inforce). Пост об Арцу Чермоеве, чеченце, воевавшим на стороне Российской
империи и удостоенном высочайшим указом императора титула князя, вызвал
такую реакцию: “Что может быть хуже для народа, чем такой человек?” Пост
собрал более 200 комментариев с негативной оценкой деятельности Чермоева.
Итак, в соцсетях в поле обсуждения Кавказской войны место и характер
участия в ней Российской империи - это, пожалуй, основной момент, который
практически не вызывает разногласий у представителей разных кавказских об-
ществ. Но этот дискурс выходит далеко за рамки социальных сетей. Локальные
авторы, которые пишут о Кавказской войне в рамках деколониального подхо-
да и стремятся выразить мнение и представить культуру своего народа, оспа-
ривают в своих работах имперскую риторику о России на Северном Кавказе
как о государстве, несущем культурное и политическое развитие. В своей ра-
боте «Битва за Чечню. “Война историографий” или информационная война»
Я.З. Ахмадов и Д.Б. Абдурахманов вступают в полемику со многими россий-
скими исследователями Кавказской войны (с такими авторами, как М.М. Блиев,
В.Б. Виноградов, Ю.Ю. Клычников и другие). В частности, авторы “Битвы за
Чечню…” осуждают М.М. Блиева за то, что тот ставит под сомнение “выводы
о колониальной природе политики России на Кавказе и освободительном ха-
рактере движения горцев” (Абдурахманов, Ахмадов 2015: 24). Резкой критике
подвергается и утверждение М.М. Блиева о том, что «“оплоту цивилизации” -
Российской империи, пришлось оказать ожесточенное сопротивление натиску
стадиально отсталых горских варваров» (Там же).
74
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Что касается участия горцев в военных действиях на стороне имперской
армии, то этой теме посвящена работа А.Т. Урушадзе “Горец на русской служ-
бе в годы Кавказской войны (1801-1864 гг.): посредник, маргинал, предатель”
(Урушадзе 2020а). Это исследование показывает, что, несмотря на известные
случаи обретения отдельными кавказцами высокого положения и престижа
благодаря военной службе в Российской империи, зачастую горец терял свой
статус и авторитет у своего народа, а порой ему и вовсе объявлялся бойкот.
И до сих пор эти люди могут восприниматься предателями, не имеющими чести.
Дискуссии об участии в войне отдельных народов
Северного Кавказа
Разные исследователи по-разному датируют Кавказскую войну, но если
мы обратимся к энциклопедическим статьям, то, скорее всего, увидим период
1817-1864 гг. В соцсетях же дело обстоит несколько иначе. Для аварцев
Кавказская война - это война Северо-Кавказского имамата с Российской импе-
рией. Они не отрицают участия других кавказских народов, но считают, что все,
что было до и после существования имамата, - это отдельные столкновения,
но не полноценные военные действия: “Аварцы последние были в Кавказской
войне, кто до конца сражался, когда Имама Шамиля взяли, тогда только объя-
вили о завершении войны русские. Аварцы начали эту войну и закончили ее…”
(ВКонтакте: Кавказ Факты). Кумыки придерживаются собственной датировки:
“Пожалуй ни один кавказский народ не воевал с русскими дольше, чем кумыки,
с 1560 по 1877 год” (ВКонтакте: История Кавказа). Ситуация в Дагестане вооб-
ще оказывается достаточно специфической в силу большого разнообразия этно-
сов, представленных в республике. Тесное соседство и сложная история взаимо-
отношений способствуют усилению конкуренции не только за политические и
экономические ресурсы, но и за “славное военное прошлое”.
Черкесы раздвигают временные границы войны до 101 года. Для них
Кавказская война и Русско-Черкесская война - синонимы: “101 год воевали Ады-
ги, несмотря на численное превосходство Российской империи” (ВКонтакте:
Черкесский ренессанс). В одной из групп был размещен предложенный под-
писчиком-черкесом пост “Как называется война: Кавказская, русско-кавказская
или русско-черкесская?” Вот выдержка из этого поста: “В российской истории
Кавказской войной называется война, которую Россия вела на Кавказе в 19 веке.
Удивительно, что временной интервал этой войны исчисляется с 1817 по 1864 год.
Странным образом куда-то исчезли с 1763 по 1817 годы. За это время была в
основном покорена восточная часть Черкесии” (ВКонтакте: История Кавказа).
Вот так описывает коммеморативные мероприятия в Нальчике А.Т. Урушадзе:
После траурного митинга звучит музыка старинных адыгских песен, а завершается День
памяти адыгов - жертв Кавказской войны и насильственного выселения - зажжением
101 свечи, каждая из которых символизирует год военного времени с 1763-й по 1864-й.
Именно такая датировка Кавказской войны закреплена на постаменте “Древа жизни”.
Она противоречит хронологии, устоявшейся в советской науке и зафиксированной в
современном историко-культурном стандарте, - 1817-1864 гг. (Урушадзе 2020б: 250).
Что касается чеченцев, то они причисляют к Кавказской войне не только
более поздние по времени восстания в Чечне, но и - как логическое продолже-
ние - две чеченские войны XX в.: “Ваш Шамиль сдался в плен, а чеченцы про-
должили войну вплоть до 20-го века” (Online: ChechenCenter). Во время своей
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
75
полевой работы с чеченскими респондентами я записывала истории, в которых
события времен Кавказской войны, депортации, первой и второй чеченских
войн увязываются в один нарратив, согласно которому на протяжении вот уже
350-400 лет российское государство предпринимает попытки уничтожить че-
ченский народ. Эти попытки, по словам моих респондентов, предпринимаются
примерно каждые 50 лет. И дело не в том, совпадает ли эта временная шкала с
реальными историческими событиями, а в том, что такой нарратив в принципе
существует и Кавказская война является его неотъемлемой частью.
Если говорить о постах, посвященных сражениям Кавказской войны, то ав-
торы чаще всего описывают отдельные, достаточно известные битвы: штурм
Ахульго, взятие Гергебиля и Гуниба, Ичкеринское и Салтинское сражения. Есть
и боевые события, о которых пишут и знают в основном представители како-
го-то одного народа. Так, множество черкесов отметились комментариями под
постом о Кайтукинском сражении 1779 г. Представители других народов отно-
сятся с недоверием к таким сообщениям и часто называют их сказками. Но и
взгляды на общеизвестные военные кампании времен Кавказской войны сильно
разнятся. Например, пост “Даргинские воины в количестве 400 человек стали
мучениками в битве при осаде крепости Ахульго” сопровождается ответным
комментарием: “Это все сказки и никаких даргинцев в Ахульго не было!”
Ахульго вообще оказался для Дагестана важным символом. В 2017 г.
в Унцукульском районе открылся мемориально-исторический комплекс
“Ахульго”, инициатором строительства которого стал Р.Г. Абдулатипов, глава
Дагестана. Начиная с 2013 г. в республике активно продвигались фильмы, книги
и другие материалы, посвященные Кавказской войне. Много внимания уделя-
лось “подвигу защитников осажденного Ахульго во главе с Имамом Шамилем”,
который позиционировался и позиционируется в Дагестане как государствен-
ный, духовный и военный лидер, сумевший объединить разные народы Кавка-
за. В 2016 г. в республике отмечалось 145-летие со дня смерти Шамиля, тогда
же началось строительство историко-мемориального комплекса “Ахульго”, еще
на подготовительном этапе которого высказывалось мнение, что это не истори-
ческий, а идеологический проект и именно поэтому в его создании так активно
участвует глава Республики Дагестан.
Образы героев
Чрезвычайно острой и спорной темой оказываются герои Кавказской вой-
ны. Во многих группах был выложен один и тот же список самых заметных ее
участников. Озаглавлен он так: “Деятели Черкессии, Абхазии, Имамата, Осе-
тии, иностранцы, помогавшие горцам в войне с Российской империей”. В ком-
ментариях разгорелись споры о том, кто настоящий герой, а кто “стяжал чужую
славу и не отдался по настоящему правому делу борьбы с захватчиками” (ВКон-
такте: История Кавказа). Вот пример обмена мнениями между подписчиками:
“Байсангур покончил жизнь самоубийством в 1861 году, а наиб Хаджимурад
пал в бою в 1859 году. Шахид ИншаАллагь и разрубил 17 кяфиров…”, “Хад-
жимурад менял стороны чаще, чем ты носки, какой он Шахид?... Байсангур
Шахид, которого повесили за то, что он пошел до конца, как мужчина и мусуль-
манин” (Там же).
Вообще, в группах размещается много постов о различных участниках Кав-
казской войны, в основном это наибы Шамиля - представители разных наро-
дов, но есть и другие военные деятели. Сам имам Шамиль - это отдельная тема
76
Этнографическое обозрение № 1, 2023
для словесных баталий. Отношение к нему сильно разнится, и далеко не все
считают его героем и главным действующим лицом Кавказской войны. Как
пишет В.А. Шнирельман, спорность этого образа проявилась еще во время
первой чеченской войны (Шнирельман 2006, 2019). Так, в нескольких группах
был выложен фильм 1992 г. “Рай под тенью сабель”, посвященный Шамилю.
Вот один из комментариев: “Внатуре, про этого предателя еще и фильм сняли”
(ВКонтакте: Кавказ Факты). Шамиль подвергается нападкам по большей ча-
сти со стороны чеченцев. Осуждают его главным образом за то, что он сдался
в плен, а не погиб в борьбе с Российской империей, как должно “истинному
предводителю мусульман”. Кроме того, некоторые подписчики, позициониру-
ющие себя правоверными мусульманами-суннитами, не одобряют еще и при-
частность Шамиля к суфизму: “Суфизм, также как шиизм - зараза!” (ВКонтак-
те: Кавказ сейчас).
Конфликт памятей вокруг фигуры имама Шамиля разгорелся после интер-
вью, которое Р.А. Кадыров дал в августе 2019 г. новостному порталу “Чечня се-
годня”. Характеристика, которую глава Чечни дал Шамилю и его политической
и военной деятельности, оказалась весьма нелестной:
В 1840 году имам Дагестана Шамиль со своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню.
Восьмого марта в Урус-Мартане провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. С этого
дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько
раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали
от холода и голода. Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил
о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на
Коране, что народ будет вести войну против России. В апреле 1859 года имам Шамиль
перебрался из Ведено в Гуниб. Через четыре месяца 26 августа 1859 года имам с почетом
сдался России. За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа со-
кратилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%2.
Интервью оказалось очень резонансным, на него отреагировали и читатели
портала, и историки Дагестана, и представители общественности. Многие из
них были возмущены подобными высказываниями официального лица в адрес
героической для Дагестана личности. Несколько раз после этого Р.А. Кадырову
пришлось пояснять свои слова и фактически оправдываться за них в попытке
погасить назревающий в публичном пространстве конфликт.
* * *
Д. Бар-Тал предлагает концепцию нарратива, поддерживающего конфликт
(conflict-supporting narrative). Определяя само понятие “нарратив”, автор пи-
шет, что оно “относится к рассказу о событии или событиях, который имеет
сюжет с четкой начальной и конечной точками и обеспечивает последователь-
ную причинно-следственную связь между миром и его событиями и опытом
сообщества” (Bar-Tal et al. 2014: 663). И далее:
На коллективном уровне нарративы - это социальные конструкции, которые связно вза-
имодействуют с последовательностью исторических и текущих событий; это рассказы о
коллективном опыте сообщества, воплощенные в его системе верований и представляю-
щие символически сконструированную общую идентичность коллектива (Ibid.).
О.Ю. Малинова пишет о нарративе следующее:
Исторические нарративы имеют сложно-составную структуру: они складываются из со-
бытий-фрагментов, которые могут быть развернуты в самостоятельные сюжетные пове-
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
77
ствования. “Объяснение” отдельных фрагментов определяется общей сюжетной линией
(при этом одни и те же события могут встраиваться в разные нарративы) (Малинова
2015: 10).
Д. Бар-Тал утверждает, что нарративы, поддерживающие конфликты, игра-
ют важную роль не только в их возникновении, но и в их сохранении в раз-
ных формах на протяжении длительного времени. Такие нарративы становятся
идеологическими основами, служащими призмой, через которую члены сооб-
щества обрабатывают информацию и тем самым поддерживают продолжение
конфликта (Bar-Tal et al. 2010).
Поскольку конфликтующие общества обычно разрабатывают противоположные нар-
ративы, поддерживающие конфликт, и поскольку в каждом обществе могут существо-
вать дополнительные контрнарративы, лидеры групп и идеологи изначально пытаются
сохранить доминирование своих собственных нарративов среди членов группы, а так-
же прилагают усилия, чтобы убедить другие группы в правдивости своих нарративов
(Bar-Tal et al. 2014: 663).
И хотя сам Д. Бар-Тал сосредотачивается в первую очередь на функцио-
нировании нарративов на стадии открытого военного конфликта, не можем
ли мы рассматривать его концепцию как вполне применимую и к наррати-
вам, актуализирующимся во время других этапов радикализации сообщества?
Выделенные мной выше основные моменты дискурса о Кавказской войне могут
стать и становятся основой для формирования нарративов, поддерживающих
конфликт. Эти нарративы обладают определенными характеристиками, кото-
рые могут проявляться как все одновременно, так и в различных комбинациях:
1) оправдание участия в конфликте и хода его развития с одновременной дис-
кредитацией целей другой стороны как необоснованных; 2) очерчивание
опасностей, которые конфликт представляет для общества, - угроза физиче-
скому существованию, ценностям, идентичности и территории сообщества;
3) делегитимизация, а в ряде случаев демонизация и дегуманизация оппонента, -
по сути, отрицание человечности противника - что служит психологическим
разрешением для нанесения ему вреда; 4) прославление своего сообщества и
героизация его отдельных представителей; 5) представление своего сообщества
единственной жертвой конфликта; 6) поощрение патриотизма, национализма и
т.д., необходимых чтобы мобилизовать людей для достижения групповых це-
лей, особенно для насильственной конфронтации с соперником, включая готов-
ность принести самую большую жертву - жизнь; 7) подчеркивание важности
поддержания единства, игнорирование внутренних распрей и разногласий пе-
ред лицом внешней угрозы.
В одном из сообществ мной был найден комментарий, отражающий суть
взаимоотношений представителей разных обществ Кавказа в обсуждении Кав-
казской войны: “Никто не хочет славой делиться, хоть правду напиши, хоть
неправду” (Online: ChechenCenter). Сегодня Кавказская война - это некий ин-
дикатор: степень и характер участия в ней определяют статус того или иного
кавказского народа. Сами горцы часто пишут о том, что для них доблесть - одно
из важнейших качеств. Кавказская война оказывается источником доблести, а
зачастую и последним аргументом, к которому можно обратиться в любой не-
благовидной для “национальной гордости” ситуации. В пространстве памяти
различных сообществ эта война принимает те формы, которые соответствуют
их сегодняшним потребностям и самоощущению. “Служит ли социальная па-
мять тоталитарному режиму или интересам различных групп демократическо-
78
Этнографическое обозрение № 1, 2023
го общества, ее ценность и перспективы выживания полностью зависят от ее
функциональной эффективности: содержание этой памяти меняется в соответ-
ствии с контекстом и приоритетами” (Репина 2005: 158). Кавказская война мо-
жет быть отправной точкой и в прошлое, и в будущее. Первый путь уводит к
дебатам о происхождении и историческом характере того или иного народа,
в этих рассуждениях, собственно, и определяются особенности его участия в
Кавказской войне (Шнирельман 2006). Второй путь ведет к спорам о современ-
ных конфликтах различного масштаба на Кавказе - от локальных столкновений
в пределах одного городского района до, например, войны в Чечне. На самом
деле комментарии о Кавказской войне далеко не всегда сопутствуют постам о
ней. Часто отсылки к этому событию оказываются там, где разговор касается
конфликта интересов современных кавказских сообществ или же сегодняшней
политики федерального центра относительно республик Кавказа.
Несмотря на все споры о том, какой народ достойнее показал себя во вре-
мя Кавказской войны, множество людей пишут, что память о ней должна объ-
единять, а не разделять кавказские народы: “К большому сожалению, мы не
пришли до сих пор к выводу о том, что нам всем нужно быть вместе, по этой
причине мы будем получать то, что заслуживаем” (ВКонтакте: Кавказ сейчас).
Часто авторы комментариев используют по отношению друг к другу обраще-
ние “брат”: “В этом и есть наша беда и наша глупость. Так было всегда, брат,
никому не выгодно наше единство” (ВКонтакте: Кавказ Факты). Ежегодно
21 мая в группах публикуются посты в честь годовщины окончания Кавказской
войны. Все они схожи между собой и имеют заголовки типа “Скорбная дата”,
“Помним и скорбим” и т.п. Комментарии под ними обычно не содержат ника-
ких споров и разногласий: “Братский поступок (по поводу траурного шествия
в день окончания войны. - В.Т.), поддержка и солидарность”, “Кавказ един!”,
“Солидарность - это хорошо” (ВКонтакте: Черкесский ренессанс, История
Кавказа, Кавказ Факты).
Очевидно, что тема Кавказской войны может нести в себе объединяющий
потенциал для кавказских народов. Но также очевидно, что единение это зи-
ждется на принципе “против кого дружите”, а дружат в данном случае против
России. Что понимается под “Россией”? - это вопрос, требующий отдельного
разъяснения. Вот хороший пример комментария, который был крайне одобри-
тельно встречен подписчиками:
Цель таких мракобесов как вы - чтобы народы Кавказа оставались разрозненными и
порабощенными, находясь под прямой оккупацией русского кяфира, постоянно выпя-
чиваясь, споря и конфликтуя между собой, решая, какой народ круче, какой народ более
мусульманский, чем остальные, и кто кого предал в русско-кавказских войнах. Вот она
политика “разделяй и властвуй” как работает. Но люди не хотят этого понимать!
Согласно Л.-Э. Сидерману, мобилизация сообществ для участия в действиях
радикального характера возможна в том числе путем актуализации существу-
ющих коллективных обид, которые могут находиться не только в поле акту-
альных экономических и политических претензий, но и в символическом поле
социальной памяти (Cederman et al. 2013). Любую память можно инструмен-
тализировать. Любая травматическая память имеет потенциал, который может
быть использован в процессе радикализации того или иного сообщества. Хотя,
конечно, конфликтный потенциал реализуется не везде и не во всех случаях.
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
79
Благодарности
Статья подготовлена на основе доклада, представленного 24 марта 2021 г.
на научной сессии “Актуальная историко-культурная и этническая тематика в
учебно-научном и общественно-политическом дискурсе Северного Кавказа”.
Организаторы научной сессии: Научный совет РАН по комплексным проблемам
этничности и межнациональных отношений, Центр этнополитических иссле-
дований и отдел Кавказа ИЭА РАН.
Примечания
1 Использованные в данной статье цитаты взяты мной из публикаций и об-
суждений, размещенных в сообществах в 2018-2021 гг.:
2 “Пора говорить правду”: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме
Источники и материалы
Козловская б.г. - Козловская А. Цифровая этнография. Тьюториал Ани Щетви-
ной и Полины Колозариди с обзором литературы от Елены Соколовой //
ethnography?fbclid=IwAR3PNhYUV6eCeAFtwf8HLiKIN5q22wRhmCpDCE_
hjN6LbFKeG9YPUJDyOKQ
Утехин б.г. - Утехин И. Цифровая антропология. Четвертый урок. http://
clubforinternet.net/school/lesson4?fbclid=IwAR1koKlJJGdxclEwKpYZnm30w
Q0LJPRcMvyzRh8phvlLJdMRL6lStKoBGrM
Почепцов 2018 - Почепцов Г. Как операции влияния, массовая культура и со-
publication/324783973_Kak_operacii_vliania_massovaa_kultura_i_socmedia_
vystraivaut_novuu_realnost_How_influence_operations_mass_culture_and_
social_media_build_a_new_reality
Почепцов 2019 - Почепцов Г. Уход медиа из информационного пространства в
11-17-ukhod-medya-yz-ynformatsyonnogo-prostranstva-v-vyrtualnoe
Почепцов 2020 - Почепцов Г. Миры создаются и разрушаются в наших голо-
вах или как трансформации коммуникаций изменяют человечество. 2020.
RAZRUSAUTSA_V_NASIH_GOLOVAH_ili_KAK_TRANSFORMACII_
KOMMUNIKACIJ_IZMENAUT_CELOVECESTVO
Haidt, Rose-Stockwell 2019 - Haidt J., Rose-Stockwell T. The Dark Psychology of
magazine/archive/2019/12/social-media-democracy/600763
80
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Научная литература
Абдурахманов Д.Б., Ахмадов Я.З. Битва за Чечню. “Война историографий”,
или информационная война. Грозный: Грозненский рабочий, 2015.
Александер Д. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологиче-
ский журнал. 2012. № 3. С. 6-40.
Арчаков М.К. Политический экстремизм в России: сущность, проявления, меры
противодействия. Дис. … докт. полит. наук. Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2016.
Волкан В., Оболонский А. Национальные проблемы глазами психоаналитика с
политологическим комментарием // Общественные науки и современность.
1992. № 6. С. 31-48.
Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М.: Языки
славянской культуры, 2002.
Зинченко Ю.П., Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. Террористический акт как экс-
тремальная ситуация в обществе рисков // Национальный психологический
журнал. 2011. № 2 (6). С. 98-111.
Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей
элиты и дилеммы российской идентичности. М.: РОССПЭН, 2015.
Репина Л.П. Концепции социальной и культурной памяти в современной исто-
риографии // Феномен прошлого / Ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев.
М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 122-169.
Урушадзе А.Т. Горец на русской службе в годы Кавказской войны (1801-1864 гг.):
посредник, маргинал, предатель // Журнал фронтирных исследований.
Урушадзе А.Т. Память полураспада: Кавказская война в этнических коммемо-
рациях и большом нарративе // Политика памяти в современной России
и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / Под ред.
А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в
Санкт-Петербурге, 2020б. С. 250-278.
Хаттон П.Х. История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2004.
Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе
в XX веке. М.: НЛО, 2006.
Шнирельман В.А. Социальная память - вопросы теории // Историческая память
и российская идентичность / Ред. В.А. Тишков, Е.А Пивнева. М.: ИЭА РАН,
2018. С. 12-34.
Шнирельман В.А. Бунт социальной памяти: чеченцы и ингуши против советских
историков // Сборник научных трудов Академии наук ЧР и КНИИ РАН. Вып. 8 /
Ред. С.A. Гапурова, Д.К.-С. Батаева. Грозный: АН ЧР, 2019. С. 243-271.
Bar-Tal D., Halperin E., Oren N. Socio-Psychological Barriers to Peace Making:
The Case of the Israeli Jewish Society // Social Issues and Policy Review. 2010.
Vol. 4 (1). P. 63-109.
Bar-Tal D., Nets-Zehngut R., Oren N. Sociopsychological Analysis of Conflict-
Supporting Narratives: A General Framework // Journal of Peace Research. 2014.
Vol. 51 (5). P. 662-675.
Cederman L.-E., Gleditsch K.S., Buhaug H. Inequality, Grievances, and Civil War.
Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
della Porta D. Radicalization: A Relational Perspective // Annual Review of Political
Science. 2018. No. 21. P. 461-474.
Goodwin J. Review Essays: What Must We Explain to Explain Terrorism? //
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
81
Social Movement Studies.
2004. Vol.
3.
P.
doi.org/10.1080/1474283042000266155
Hegghammer T. Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia // Middle
East Policy. 2006. Vol. 13 (4). P. 39-60.
Kalyvas S.N. The Logic of Violence in Civil War. N.Y.: Cambridge University Press,
2006.
McCauley C., Moskalenko S. Friction: How Radicalisation Happens to Them and Us.
Oxford, UK: Oxford University Press, 2008.
Pentland A. Social Physics: How Good Ideas Spread: The Lessons from a New
Science. N.Y.: Penguin Press, 2014.
Sageman M. Understanding Terror Networks. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2004.
Sageman M. Leaderless Jihad. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.
Shnirelman A. A Revolt of Social Memory: The Chechens and Ingush against the
Soviet Historians // Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its
Neighboring Worlds / Eds. O. Ieda, T. Uyama. Sapporo: Slavic Research Center;
publish/no10_ses/10_shnirelman.pdf
Wiktorowicz Q. Islamic Activism and Social Movement Theory // Islamic Activism:
A Social Movement Theory Approach / Ed. Q. Wiktorowicz. Bloomington:
Indiana University Press, 2004. P. 1-33.
R e s e a r c h A r t i c l e
Tanaylova, V.А. The “Medals not to be Proud of…”: Memory of the Caucasian
War in Social Media [“Medali, kotorymi nel’zia gordit’sia…”: pamiat’ o
Kavkazskoi voine v sotsial’nykh setiakh]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023,
ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and
Anthropology RAS
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
(32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)
Keywords
Caucasian War, memory of Caucasian War, instrumentalisation of memory, traumatic
memory, memory in social media, radicalisation
Abstract
The article examines the memory of the Caucasian War in the space of social
media (VKontakte, Telegram, etc.) and the possibilities of its use as a symbolic
resource in the process of radicalisation of local Caucasian societies. The total
number of subscribers to the communities, channels, and pages studied is around
300,000 people. The conceptual basis of the paper is the relational approach
to the concept of radicalisation. In addition, I consider memory as one of the
symbolic resources that determine the process of radicalisation of a particular
community, and refer to researchers such as L.-E. Cederman, J. Goodwin, and
M. Sageman. The article examines not just the memory of the Caucasian War represented
in the field of social media, but the several national images of the Caucasian War that
have emerged in this field.
82
Этнографическое обозрение № 1, 2023
References
Abdurahmanov, D.B., and Y.Z. Ahmadov. 2015. Bitva za Chechniu. “Voina
istoriografii” ili informatsionnaia voina [The Battle for Chechnya: The “War of
Historiographies” or Information Warfare]. Groznyi: Groznenskii rabochii.
Alexander, J. 2012. Kul’turnaia travma i kollektivnaia identichnost’ [Cultural Trauma
and Collective Identity]. Sociologicheskii zhurnal 3: 6-40.
Archakov, M.K. 2016. Politicheskii ekstremizm v Rossii: sushchnost’, proiavleniia,
mery protivodeistviia [Political Extremism in Russia: Essence, Manifestations,
Countermeasures]. PhD diss., Ural Federal University.
Bar-Tal, D, E. Halperin, and N. Oren. 2010. Socio-Psychological Barriers to Peace
Making: The Case of the Israeli Jewish Society. Social Issues and Policy Review
4 (1): 63-109.
Bar-Tal, D., R. Nets-Zehngut, and N. Oren. 2014. Sociopsychological Analysisof
Conflict-Supporting Narratives: A General Framework. Journal of Peace
Research 51 (5): 662-675.
Cederman, L.-E., K. Skrede Gleditsch, and H. Buhaug. 2013. Inequality, Grievances,
and Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
della Porta, D. 2018. Radicalization: A Relational Perspective. Annual Review of
Political Science 21: 461-474.
Gene, B. 2002. Istoriia i istoricheskaia kul’tura srednevekovogo Zapada [History and
Historical Culture of the Medieval West]. Moscow: Yazyki slavianskoi kyl’tury.
Goodwin, J. 2004. Review Essays: What Must We Explain to Explain Terrorism?
66155
Hutton, P.H. 2004. Istoriia kak iskusstvo pamiati [History as the Art of Memory].
St. Petersburg: Vladimir Dal’.
Hegghammer, T. 2006. Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia.
Middle East Policy 13 (4): 39-60.
Kalyvas, N. 2006. Stathis The Logic of Violence in Civil War. New York: Cambridge
University Press.
Malinova, O.Y. 2015. Aktual’noe proshloe: simvolicheskaia politika vlastvuiushchei
elity i dilemmy rossiiskoi identichnosti [The Actual Past: The Symbolic Politics
of the Ruling Elite and the Dilemmas of Russian Identity]. Moscow: POSSPEN.
McCauley, C, and S. Moskalenko. 2008. Friction: How Radicalisation Happens to
Them and Us. Oxford, UK: Oxford University Press.
Repina, L.P. 2005. Kontseptsii social’noi i kul’turnoi pamiati v sovremennoi
istoriografii
[Concepts of Social and Cultural Memory in Contemporary
Historiography]. In Fenomen proshlogo [A Phenomenon of the Past], edited by
I.M. Savelieva and A.V. Poletaev, 122-169. Moscow: Izdatel’skii dom GU VShE.
Sageman, M. 2004. Understanding Terror Networks. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Sageman, M. 2008. Leaderless Jihad. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Shnirelman, V.A. 2006. Byt’ alanami: intelektualy i politika na Severnom Kavkaze
v XX veke [Being Alans: Intellectuals and Politics in the North Caucasus in
the 20 Century]. Moscow: NLO.
Shnirelman, V.A. 2006. A Revolt of Social Memory: The Chechens and Ingush
against the Soviet Historians. In Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia
and Its Neighboring Worlds, edited by O. Ieda and T. Uyama: 273-307. Sapporo:
Slavic Research Center, Hokkaido University.
Shnirelman, V.A. 2018. Sotsial’naia pamiat’ - voprosy teorii [Social Memory -
Танайлова В.А. “Медали, которыми нельзя гордиться…”
83
Questions of Theory]. In Istoricheskaia pamyat’ i rossiiskaia identichnost’
[Historical Memory and Russian Identity], edited by V.A. Tishkov and
E.A. Pivneva, 12-34. Moscow: IEA RAN.
Shnirelman, V.A. 2019. Bunt social’noi pamiati: chechentsy i ingushi protiv
sovetskih istorikov [Rebellion of Social Memory: Chechens and Ingush against
Soviet Historians]. Sbornik nauchnyh trudov Akademii nauk ChR I KNII RAN
[Proceedings of the Academy of Sciences of the ChR and CSRI RAS], edited by
S.A. Gapurova and D.K.-S. Bataeva, 8: 243-271. Groznyi: AN ChR.
Pentland, A. 2014. Social Physics: How Good Ideas Spread: The Lessons from a New
Science. New York: Penguin Press.
Urushadze, A.T. 2015. Gorets na russkoi sluzhbe v gody Kavkazskoi voiny
(1801-1864 gg.): posrednik, marginal, predatel’ [Gorets in the Russian Service
during the Caucasian War (1801-1864): Mediator, Marginal, Traitor]. Zhurnal
Urushadze, A.T. 2020. Pamyat’ poluraspada: Kavkazskaia voina v etnicheskih
kommemoratsiiah i bol’shom narrative [The Memory of Half-Life: The Caucasian
War in Ethnic Commemorations and the Big Narrative]. In Politika pamiati v
sovremennoi Rossii i stranah Vostochnoi Evropy: Aktory, instituty, narrativy
[The Politics of Memory in Contemporary Russia and Eastern Europe: Actors,
Institutions, and Narratives], edited by A.I. Miller and D.V. Efremenko, 250-278.
St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
Volkan, V., and A. Obolonskii. 1992. Natsional’nye problemy glazami psihoanalitika
s politologicheskim kommentariem [National Problems through the Eyes of a
Psychoanalyst with Political Science Commentary]. Obshchestvennye nauki i
sovremennost’ 6: 31-48.
Wiktorowicz, Q. 2004. Islamic Activism and Social Movement Theory. In Islamic
Activism: A Social Movement Theory Approach, edited by Q. Wiktorowicz, 1-33.
Bloomington: Indiana University Press.
Zinchenko, Y.P., G.U. Soldatova, and L.A. Shaigerova. 2011. Terroristicheskii akt kak
ekstremal’naia situatsiia v obshchestve riskov [An Act of Terrorism as an Extreme
Situation in a Risk Society]. Natsional’nyi psihologicheskii zhurnal 2 (6): 98-111.