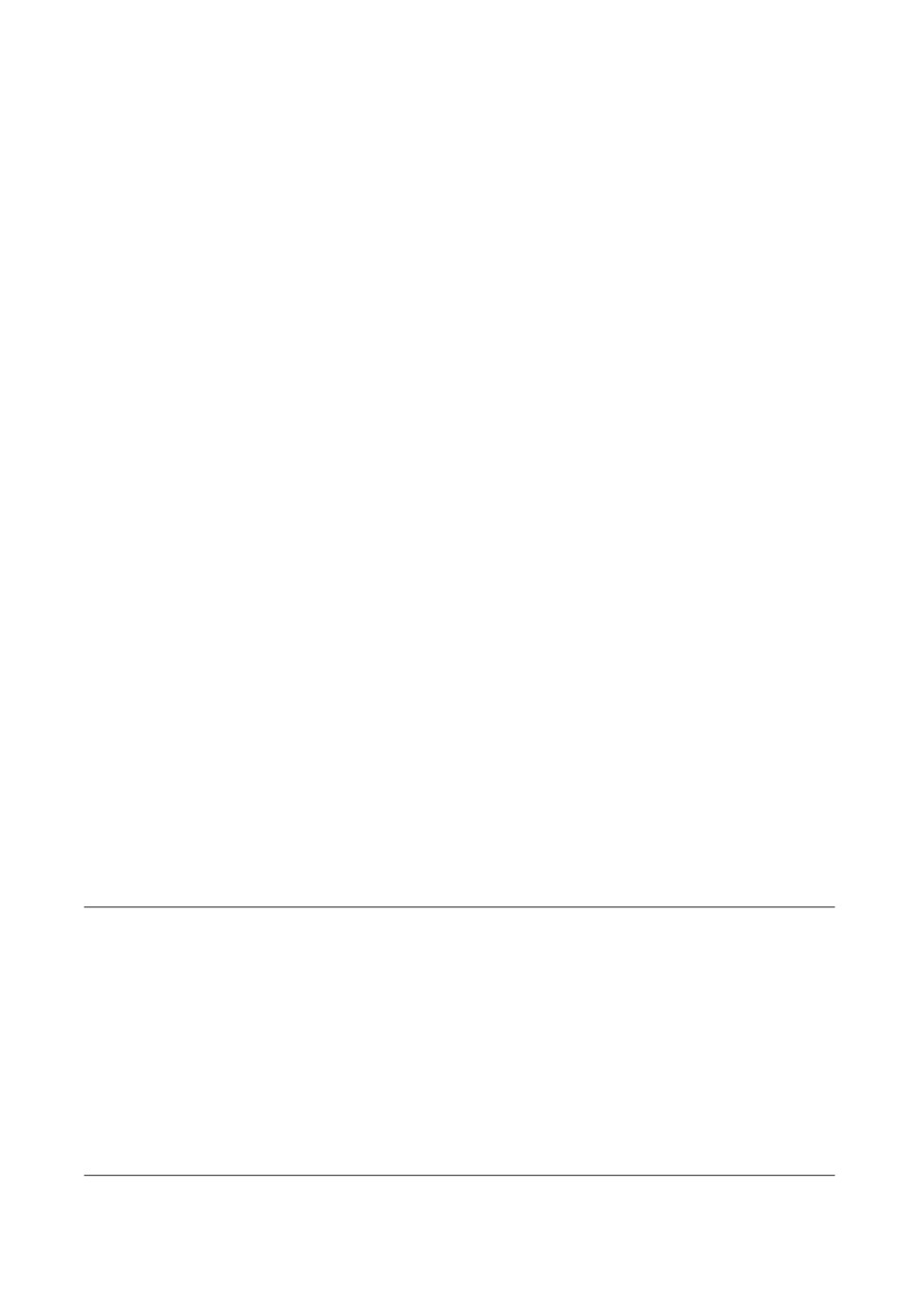ФОРМИРОВАНИЕ “КИТАЙСКОГО” СЕГМЕНТА
В УЙГУРСКОЙ ОБЩИНЕ КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ АДАПТАЦИИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ КИТАЯ В СССР В 1950-1960-Е ГОДЫ
Р.-Б.У. Каримова
risalat.karimova@mail.ru | д. и. н., руководитель Центра уйгуроведения | Институт вос-
токоведения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан (ул. Курмангазы 29, Алматы, 050010, Республика Казахстан)
Ключевые слова
СССР, Китай, Казахстан, миграция, уйгуры, адаптация, китайский сегмент
Аннотация
В статье рассматриваются особенности процесса адаптации мигрантов из Китая в СССР
в 1950-1960-е годы на примере уйгуров Казахстана, миграция которых была иницииро-
вана “сверху”, т.е. согласована правительствами двух стран и осуществлялась планово,
в рамках проводимой советским правительством репатриационной политики. Этот ми-
грационный процесс был напрямую связан с кампанией освоения целинных и залежных
земель Казахстана и должен был решить проблему нехватки рабочей силы. Адаптация
мигрантов проходила по-разному для каждого этноса. Одним из важных последствий
адаптации уйгуров в советской среде стало формирование “китайского” сегмента уйгур-
ской общины Казахстана.
Информация о финансовой поддержке
Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов:
Проект
“Устная история миграции из Китая в Казахстан в
1950-1970-е годы”
(ИРН № АР08856731, номер госрегистрации 0120РК00557) Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан
играции населения из китайской провинции Синьцзян1 (Восточный
Туркестан) на территорию Российской империи и СССР (Средняя Азия
М
и Казахстан) происходили неоднократно на протяжении нескольких
последних веков. К одной из ранних массовых миграций относится переселе-
ние уйгуров и дунган в Семиречье в конце XIX в., результатом которой стало
образование в Семиреченской области Российской империи компактных уйгур-
Статья поступила 02.06.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 20.12.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине Казахстана в контек-
сте адаптации переселенцев из Китая в СССР в 1950-1960-е годы // Этнографическое обозрение.
Karimova, R.-B.U. 2023. Formirovanie “kitaiskogo” segmenta v uigurskoi obshchine Kazakhstana
v kontekste adaptatsii pereselentsev iz Kitaia v SSSR v 1950-1960-e gody [Formation of the
“Chinese” Segment in the Uyghur Community of Kazakhstan in the Context of the Adaptation of
Immigrants from China to the USSR in the 1950-1960s]. Etnograficheskoe obozrenie 1: 123-140.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
124
Этнографическое обозрение № 1, 2023
ских и дунганских поселений, в большинстве своем сохранившихся по сей день
(Kamalov 2016: 183). Переселенцы освоили в основном пустовавшие безводные
земли, построили каналы и арыки и за короткий срок стали получать большие
урожаи, увеличивавшиеся год от года и позволявшие им не только кормить себя,
но и обеспечивать продовольствием русские войска, дислоцированные в этом
стратегически важном районе (ЦГА РК-1: Д. 4954. Л. 110, 154; Федоров 1903: 12).
Уже в 1883 г. российские власти изменили свое отношение к переселенцам и
перестали относиться к ним как к обузе (Селицкий 1904: 323-324). В конце
ХIX в. уйгуры и дунгане Семиречья получили такой же, как и другие местные
народы, статус “туземцев”, легитимизовавший их право на землепользование.
Образовавшиеся поселения стали притягательными для мусульман Синьцзяна.
В годы тяжелых испытаний уйгуры Синьцзяна устремлялись в Семиречье, на-
деясь обрести здесь защиту от преследований или спастись от голода. Послед-
няя по времени из значимых миграций уйгуров из Синьцзяна, произошедшая
в 1950-1960-е годы, увеличила почти вдвое численность советских уйгуров и
способствовала своеобразной сегментации уйгурского населения Казахстана.
В уйгурской общине появилось разделение на две группы: прибывшие в СССР
переселенцы идентифицировались как “китайские” (уйг. хитайлиқ), в то время
как прежние уйгуры стали называться “местными” (уйг. йәрлик) (Roberts 1998:
513; Kamalov 2021: 324-326). Определение “китайские уйгуры” и производное
от него “китайский сегмент” связаны исключительно с местом проживания ми-
грантов на родине - Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Так наз.
китайский сегмент консолидировался и заметно дистанцировался от “местных”
уйгуров и сохранял заметную обособленность на протяжении десятилетий.
Причиной тому стали бытовые отличия, значительно большая приверженность
традициям и пр., характеризующие специфику культуры “китайских” уйгуров.
Подробнее мы рассмотрим процесс формирования и причины возникновения
“китайского” сегмента уйгуров в Казахстане ниже.
Краткая характеристика источников
и историографии вопроса
История первого массового переселения уйгуров на территорию Семире-
чья достаточно полно освещена в целом ряде источников: в архивных мате-
риалах, содержащихся, в частности, в фондах Российского государственного
военно-исторического архива (РГВИА), Центрального государственного архи-
ва Республики Казахстан (ЦГА РК.); в статистических материалах, таких как
“Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяй-
ства в Семиреченской области (собранные и разработанные под руководством
П.П. Румянцева)”, “Опыт военно-статистического описания Илийского края”
Д. Федорова и др.; в исторических сочинениях “Тарих и амнийа”, “Тарих и
Хотан”, “Тарих и Кашгар” и др., повествующих о национально-освободитель-
ной борьбе народов Восточного Туркестана (Синьцзяна) и ее последствиях.
Проблеме массовых переселений уйгуров посвящен ряд научных трудов от-
ечественных и зарубежных исследователей. Изучением международных отно-
шений Цинской империи и соседей занимались В.С. Мясников, Н.В. Шепелева,
М. Кутлуков, К.Ш. Хафизова, И. Сюй, С.В. Тимченко, А.Д. Воскресенский,
В.А. Моисеев, П. Пердью и др.; проблемам народно-освободительного движе-
ния уйгуров и дунган посвящены работы А. Ходжаева, Ю.Г. Барановой, Д. Исиева,
И.И. Юсупова, Ходон Кима и др., процессам переселения - А. Идаятова,
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
125
М. Сушанло, Ю.Г. Барановой, Д. Брофи и др.; вопросы расселения, обустройства
и хозяйства исследовались П.П. Румянцевым, И.В. Селицким, И.В. Захаровой,
М.Н. Кабировым, Г.М. Исхаковым, Г.С. Баратовой, В.Г. Лю, Г.А. Капековой и др.
Процесс второго по масштабности переселения уйгуров из Китая в Семи-
речье уже в советские республики в 1950-1960-х годах до сих пор остается не-
достаточно изученным. В советский период эта миграция, соглашусь с автора-
ми статьи “Миграция уйгуров через границы Центральной Азии” У. Кларком и
А. Камаловым (Clark, Kamalov 2004: 167), была закрытой темой для историче-
ских исследований. К ее изучению приступили только в 1990-е годы. Разработ-
кой различных проблем, связанных с процессами репатриации и иммиграции из
Китая в Казахстан в 1950-1960-е годы, занимается российский исследователь
Н.Н. Аблажей. Ею опубликованы монография «Казахский миграционный ма-
ятник “Казахстан - Синьцзян”. Эмиграция. Репатриация. Интеграция» и ряд
статей в научных изданиях. Автор анализирует этнические миграции в СССР,
в том числе и уйгурские, оценивает их масштабы, значение и последствия как
для принимающей стороны, так и для самих переселенцев. Несколько работ,
затрагивающих рассматриваемый в нашей статье вопрос, вышло в зарубеж-
ных изданиях на английском языке. Статья Ш. Робертса “Уйгуры приграничья
Казахстана: миграция и нация” в основном посвящена процессам более позд-
ним по времени (с 1990-х годов), но в ней также уделяется внимание мигра-
ции уйгуров 1953-1963 гг. и ее последствиям. Упомянутое выше исследование
У. Кларка и А. Камалова рассматривает миграцию уйгуров из Синьцзяна в
СССР в 1950-1960-е годы в историческом и этнографическом контекстах.
В статье подчеркивается важный вклад мигрантов в социальную и культурную
жизнь советских уйгуров.
Источниковой базой данного исследования послужили основанные на
специально разработанном вопроснике структурированные и полуструктури-
рованные интервью, которые были взяты у уйгуров, переселившихся в Казах-
стан в 1950-1960-х годах (1 группа). Для “местных” уйгуров, предки которых
жили на территории Казахстана в течение нескольких поколений, также были
подготовлены вопросы, заданные им при личной встрече и частично (в усло-
виях пандемии COVID-19) по телефону (2 группа). В 1 группе было проведено
12 интервью и 6 устных опросов (ПМА-1), в четырех из них респонденты по-
желали сохранить анонимность (ПМА-2). Во 2 группе было опрошено более
15 человек (ПМА 3).
Из истории переселений уйгуров
Переселению уйгуров и дунган Илийского края в конце XIX в. на террито-
рию Российской империи предшествовал ряд исторических событий, которые
послужили предпосылками развернувшейся во второй половине XIX в. наци-
онально-освободительной борьбы уйгуров и дунган против цинского господ-
ства. Коротко я остановлюсь на главных из них.
В Китае в ХVІІ в. к власти пришла маньчжурская династия Цин, проводив-
шая активную внешнюю политику (Perdue 2005: 9-11). Внутренняя дестабили-
зация в Восточном Туркестане в конце концов привела к угасанию правящей
могульской династии и к завоеванию страны цинским Китаем. В 1755-1757 гг.
маньчжуры овладели Джунгарией, а в 1759 г. - Кашгарией (Ходжаев 1982:
164-165, 170). После завоевания цинское правительство организовало пересе-
ление в Илийский край (Джунгарию) 6 тыс. уйгурских семей из разных городов
126
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Кашгарии, наиболее активно сопротивлявшихся завоевателям. Эта мера пре-
следовала две цели: создать земледельческую базу для снабжения войсковых
частей в Джунгарии и наказать “мятежников”. Так образовалась новая, илий-
ская (кульджинская), группа уйгурского населения. Центром Илийского края
стал г. Кульджа2.
Присоединение Восточного Туркестана к Китаю привело к объединению
Кашгарии и Илийского края в одну область - Синьцзян (в переводе с кит.
“Новая линия” или “Новая граница”). Народы Восточного Туркестана сразу
же после завоевания страны начали освободительную борьбу против цинского
Китая. Одно антицинское восстание следовало за другим. Особенно мощным
было уйгуро-дунганское восстание 1864-1878 гг., в результате которого повсю-
ду в Джунгарии и Кашгарии (кроме Баркуля и Комула) было свергнуто господ-
ство Цинов и образовано пять самостоятельных государств: Кучарское, Хотан-
ское, Кашгарское, Урумчинское и Кульджинское (Илийский султанат). В 1867 г.
путем объединения Кашгарии и Илийского султаната было создано государство
Йеттишар во главе с Якуб-беком. В 1870-1871 гг. в состав нового государства
вошло и Урумчинское ханство (Исиев 1981: 23-24). Борьба между державами
(Россия, Великобритания, Цинская империя) за влияние и владение Централь-
ной Азией привела в 1871 г. к оккупации Илийского края Россией, после чего
Илийский султанат прекратил свое существование (Hsü 1965: 12).
В сентябре 1874 г. для подавления очередного восстания цинское прави-
тельство предприняло карательный поход на Йеттишар, направив сюда армию,
вооруженную европейским оружием (Kim 2004: 164-178). Народы Синьцзяна
мужественно отстаивали свое право на независимость, однако из-за пассивной
политики Якуб-бека, допущенных им стратегических ошибок, несогласованно-
сти действий руководителей подразделений, отсутствия постоянной связи меж-
ду ними, из-за нехватки оружия повстанческие отряды терпели поражение за
поражением и вынуждены были оставлять стратегически важные населенные
пункты. В 1877 г. неожиданно умер Якуб-бек и всю Кашгарию вновь подчинил
цинский Китай. Тем не менее национально-освободительная борьба продолжа-
лась до 1879 г. (Таарих-и Эмэние 1905: 225-228, 298).
В 1881 г. Россия вследствие сложного международного положения вынуж-
дена была вернуть Илийcкий край Китаю, оставив за собой лишь небольшую
пограничную полосу с селениями Кальджат, Кетмень, Большой и Малый Ачи-
нохо, Тиермень, Дардамты, Шункар, Актам, Добун и др. (в пределах современ-
ных Панфиловского и Уйгурского районов Казахстана) (Скачков, Мясников
1958: 54-60 [ст. I, VII]; Воскресенский 1995).
Ливадийский договор между Российской и Цинской империями, определяв-
ший условия возвращения Илийского края Китаю, был подписан 20 сентября
1879 г. По условиям договора (ст. II) цинский император не должен был пре-
следовать жителей Илийского края за участие в восстании (ЦГА РК-1: Д. 4852.
Л. 2), кроме того, мусульманскому населению края предоставлялось право при-
нять подданство России и переселиться в ее пределы в течение года (ст. III)
(ЦГА РК-1: Д. 4852. Л. 4). А 12 февраля 1881 г. между Россией и Китаем был
подписан Петербургский договор, который предусматривал право 132-тысячно-
го населения Илийского края на избрание себе подданства (ЦГА РК-1: Д. 4854.
Л. 4-9об). Большинство уйгуров (11 365 семей) и дунган (1308 семей), опасаясь
репрессий со стороны цинского правительства, предпочло русское подданство
и переселение в Семиречье (Семиреченская область - Юго-Восточный Казах-
стан и Северная Киргизия) (ЦГА РК-1: Д. 4861. Л. 25; ЦГА РК-2. Л. 8).
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
127
Переселение 1950-1960-х годов
Предпосылки и условия миграционного процесса. В СССР был накоплен
значительный опыт регулирования миграционных потоков. Несмотря на жест-
кие ограничения в этой области, советское правительство реализовывало доста-
точно либеральную репатриационную политику, направленную на реализацию
краткосрочных и долгосрочных перспектив (Аблажей 2003: 172). Однако, хотя
правительство и прикладывало значительные усилия, направленные на макси-
мально быструю интеграцию переселенцев в местную среду, успешность адап-
тации определялась также и субъективными психологическими факторами.
При исследовании вопросов миграции и адаптации необходимо среди пере-
селенцев различать иммигрантов и репатриантов. В миграционной уйгурской
волне 1950-1960-х годов первые - это люди, впервые переселившиеся в Совет-
ский Союз, а вторые - возвращенцы, те, кто в разное время, особенно в перио-
ды гражданской войны и коллективизации, спасаясь от преследования, раску-
лачивания или голода, переселился из Советского Союза в Китай (Синьцзян и
Маньчжурия), а теперь вернулся на прежнее место жительства. В результате
начатой в 1954 г. репатриации выходцы из СССР, большая часть которых имела
советское гражданство, вернулись на свою родину (Clark, Kamalov 2004). Сре-
ди них, кроме славян (русских, белорусов и украинцев), а также выходцев из
Европейской части России (евреи, татары), было много представителей мест-
ных народов Синьцзяна, в том числе уйгуров.
Интервью показали, что среди уйгуров Синьцзяна за несколько десятилетий,
предшествовавших миграции, сложилось представление о СССР как о стра-
не всеобщего благоденствия, где все имели возможность бесплатно получать
образование, лечиться, пользоваться множеством благ, где всем было обеспече-
но достойное существование. Считалось, что в СССР люди достигли высокой
культуры, их жизнь была безбедной, интересной и счастливой - эта жизнь стала
своего рода эталоном, к которому уйгуры Синьцзяна стремились и который по
мере возможности пытались копировать. В Китай попадали (через советские
консульства, торговые представительства, почтой) советские журналы, книги,
в кинотеатрах демонстрировались советские фильмы. Некоторые респонденты
вспоминают яркие впечатления, оставленные, в частности, просмотром фильма
К. Юдина “Смелые люди”. В г. Кульдже, расположенном вблизи советско-ки-
тайской границы, имелись русские школы; самая крупная из них - семилетка
им. И.В. Сталина - спустя несколько лет стала десятилеткой. Ее директором, по
воспоминаниям респондентов, был молодой русский парень В. Петров, который
переселился в СССР в 1950-е годы, обосновался в г. Алма-Ате и со временем
стал одним из редакторов и авторов журнала “Простор”. В Синьцзяне было
принято во всем подражать советским людям. Особенно заметным это стремле-
ние было среди городской молодежи, которая учила русский язык, копировала
одежду, прически, разучивала модные в то время танцы - вальс, вальс-бостон,
фокстрот, танго и др., пела песни из советских кинофильмов. Все выходцы из
Синьцзяна, почти без исключения, прекрасно танцевали, некоторые играли на
гармони и баяне. Молодые родители читали детям советские книжки, разучива-
ли с ними советские песни. В Синьцзян доставлялись книги на уйгурском языке
из Алма-Аты и Ташкента. Среди них были произведения Х. Абдуллина, дру-
гих советских уйгурских авторов, а также романы С. Айни “Рабы”, Г. Гуляма
“Решающий шаг”, М. Ауэзова “Путь Абая” и др. Советскими книгами зачиты-
вались, тем более что в это время в Синьцзяне литература на уйгурском языке
128
Этнографическое обозрение № 1, 2023
издавалась ограниченными тиражами. В результате много русских слов вошло
в обиход городских уйгуров (ПМА-1: Ахметов, Гаппаров; ПМА-2: М.Т., А.Х.).
Миграция 1950-1960 годов для уйгуров была связана с резким ухудшением
жизни в условиях социалистических экспериментов в Китае. Однако переселе-
ние и обустройство на новом месте показали, что советская реальность далеко
не соответствует представлениям и мечтам. Из интервью видно, что многие им-
мигранты вынужденно покидали Синьцзян: одни уезжали, предупреждая арест
(ПМА-2: П.У., Н.М.), других выдворяли из страны (ПМА-2: М.Т., Х.). Более сво-
бодно покидали Китай репатрианты, стремившиеся воссоединиться с родными.
Но всем без исключения пришлось преодолевать сложные условия перехода че-
рез границу, карантин - когда люди жили “на узлах” в распределительном ла-
гере, где были обречены на мытарства: прохождение процедуры оформления,
санитарную обработку (обязательное мытье в общей бане, что для традицион-
но воспитанных синьцзянских уйгуров создавало стрессовую ситуацию) и пр.
Однако все интервьюируемые отмечали, что в лагере с ними обращались нор-
мально и кормили хорошо. Иммигрантов из Хоргоса3 переправляли в Сары-Озек4,
куда, в специально организованные пункты, приезжали представители админи-
страций областей и районов республики, нуждающихся в рабочих руках. После
распределения мигранты отправлялись по назначению. Повезло тем, за кем при-
езжали родственники или друзья, но и эти мигранты часто покидали лагерь тай-
ком, в нарушение принятых процедур и поэтому в страхе. Селились они сначала
у родных, а позднее старались найти жилье поблизости от них.
Карательные меры китайского правительства, подтолкнувшие уйгуров к ми-
грации, были направлены против тех, кто активно участвовал в создании Вос-
точно-Туркестанской республики (ВТР)5, кто занимал высокие посты в ее пра-
вительстве и должности в администрации (ПМА-2: П.У., ПМА-1: Йолдашев).
Некоторые из этих людей уже были посажены в тюрьмы, кое-кого расстреляли,
а те, кто не успел или не захотел уехать, позднее оказались в заключении. Часть
уйгуров, как, например, министр культуры Синьцзян-Уйгурского автономного
района (СУАР) КНР З. Самади6, попали в число неблагонадежных из-за того,
что позволили себе критиковать политику руководства Коммунистической пар-
тии Китая. И, наконец, под эти меры подпали уйгуры, ранее эмигрировавшие
из Советского Союза, особенно те, кто позже получил советское гражданство
(советские паспорта прежде всего выдавали выходцам из СССР). К некоторым
из них на постой и для соглядатайства в 1950-е годы селили китайских солдат
(ПМА-1: Кибиров). Были случаи, когда советских граждан в срочном порядке
увольняли с работы и требовали покинуть страну в течение суток. Это делалось
под контролем полиции (ПМА-2: М.Т., А.Х.; ПМА-1: Ахметов, Йолдашев).
Значительную роль в активизации миграционного процесса сыграли слухи,
муссировавшиеся уйгурами Синьцзяна, о грядущих гонениях на них, притес-
нениях и арестах. В начале 1961 г. распространились слухи о том, что ожида-
ются аресты людей, владеющих русским языком, в частности преподавателей
русского языка и литературы, - их подозревали в сотрудничестве с Советским
Союзом (ПМА-2: Н.К.; ПМА-1: Ахметов). Выталкивающую роль в возникшем
процессе миграции сыграли также проводимые китайским правительством со-
циалистические кампании: “Большой скачок”, реформы сельского хозяйства,
образование коммун, репрессии и партийные чистки, приведшие к социальным
катастрофам и гибели в Китае десятков миллионов человек. Все упомянутые
эксперименты сказались и на жизни уйгуров Синьцзяна (ПМА-1: Махмудов,
Сабитов, Йолдашев, Гаппаров).
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
129
Расселение мигрантов на советской территории. После перехода грани-
цы многие мигранты, проходившие оформление в соответствии с требованиями,
не смогли уехать туда, куда планировали, т.е. в места компактного расселения
уйгуров, где уже жили их знакомые или родственники. Люди были распреде-
лены, как уже отмечалось выше, казахстанской администрацией в местности,
где требовались рабочие руки. Так произошло, например, с семьями интервью-
ируемых, пожелавших сохранить анонимность (ПМА-2: М.Т., А.Х.). Они наде-
ялись попасть в г. Фрунзе7, но их на машине, а потом поездом отвезли в совхоз
“Актогай” в районе оз. Балхаш Казахской ССР. Только три месяца спустя, после
настойчивых требований и писем в руководящие органы им дали разрешение
на переезд и переправили в г. Фрунзе. Семьи иммигрантов 1960-х годов оседа-
ли в разных селениях Уйгурского района Алма-Атинской области, например
семья К. Ахметова - в с. Аксу (ПМА-1: Ахметов). Семья А. Махмудова вместе
с другими односельчанами, выходцами из с. Турпан-йузи Кульджинского уезда,
после перехода границы сначала попала в г. Панфилов8, затем поездом в с. Чу9,
а оттуда с двумя другими семьями была переправлена на машине в заброшен-
ный дом в горах. Там им пришлось дробить камни, которые забирал трактор. Из
этих же камней мигранты построили себе жилища. У Б. Махмудова дядя обо-
сновался в с. Узун-Агач Алма-Атинской области, и со временем семья смогла к
нему перебраться. Затем другой родственник забрал Махмудовых в с. Чунджу -
административный центр Уйгурского района Алма-Атинской области, чтобы
дети смогли учиться в уйгурской школе. В Чундже семья прожила несколько
лет, после чего смогла переехать в г. Ташкент (ПМА-1: Махмудов). Были сре-
ди печальных рассказов и исключения. Например, семью А. Юлдашева с не-
сколькими другими семьями направили из Сары-Озека в совхоз “Аральский”
Кзыл-Ординской области Казахской ССР. Встретили их радушно, поселили в
приготовленных домах, прекрасно кормили, обеспечили всем необходимым для
обустройства, выделили каждой семье по корове, дали время на отдых. Рабо-
тать мигрантов направили на ферму, где они занимались заготовкой кормов.
Некоторым повезло еще больше, их сразу же на границе встретили и забрали к
себе родственники из советских уйгуров (ПМА-1: Сабитов, Гаппаров).
Были среди мигрантов и перешедшие границу без соответствующих раз-
решительных документов, т.е. самоходом, незаконно. Их также приняли на
советской стороне и без всяких проволочек направили в отведенные для рас-
селения места. Так на территории СССР появилась группа приблизительно из
20 уйгуров, среди которых находился интервьюируемый Ш. Масимахун. Людей
встретили четверо вооруженных советских военнослужащих. Вечером этого
же дня беженцев доставили в г. Панфилов, где они пробыли два дня. Затем на
машине их отправили в Сыры-Озек, а оттуда в двух вагонах поездом в Отар10.
Санитарные условия при перевозке были ужасными, в вагоне находилось
73 подростка, но в пути их кормили. Из Отара ребят на машинах доставили в
колхозы, где распределили на разные работы: косить траву, возить дрова и пр.
Ш. Масимахун попал в колхоз “Актерек”. Довольство было скудное, денег не
давали, и он с еще одним парнем решил сбежать в г. Фрунзе. Договорились с
водителем газика, который и отвез их туда. После многих лишений ребятам по-
везло, они встретили дальнего родственника Ш. Масимахуна, который устро-
ил их на работу в колхоз “Путь к коммунизму” на Иссык-Куле11, где они про-
работали какое-то время на свекольных полях. Так в поисках лучшей жизни,
“прыгая с места на место”, Ш. Масимахун промаялся до 1964 г., когда наконец
вернулся в Казахстан. Он поселился в с. Малыбай Енбекшиказахского района
130
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Алма-Атинской области и стал работать в совхозе. Выучившись на шофера,
мужчина проработал на электромонтажном предприятии 44 года, вплоть до
выхода на пенсию (ПМА-1: Масимахун).
Процесс адаптации. Адаптация мигрантов проходила сложно и достаточно
длительно вследствие целого ряда объективных причин. Одной из них было
незнание русского языка подавляющим большинством приехавших, тогда как в
советском Казахстане русский язык занимал доминирующее положение и был
необходим для получения образования, участия в производстве, общественной
жизни, для повседневного общения. Тормозили процесс адаптации сложно-
сти в трудоустройстве и не признаваемая в СССР квалификация, полученная в
Китае. Некоторая часть мигрантов в СУАР КНР относилась к элитной прослойке,
к образованной и экономически обеспеченной интеллигенции. В другой стра-
не их знания и навыки в большинстве случаев оказались невостребованными.
У переселенцев не было советских дипломов, поэтому они не смогли устро-
иться на работу по специальности. Основная масса мигрировавших вынужде-
на была заниматься тяжелым физическим трудом или же работать на самых
низкооплачиваемых позициях в сфере производства и в торговле. В некоторые
организации на работу их не брали вообще, например, в органы власти и подве-
домственные организации (даже водителем в гаражи КГБ, МВД, Совмина), на
закрытые предприятия (машиностроительный завод им. С.М. Кирова в Алма-
Ате); не давали им разрешения и на заграничные рабочие командировки (ПМА-1:
Гаппаров). Сложным испытанием для молодых мужчин стала обязательная
служба в армии. В Советском Союзе призывников отправляли в военные ча-
сти в разные концы огромной страны, и юноши вдруг оказывались в чуждом
иноэтничном окружении. Здесь все было другим, а главное - пища, многое из
которой для мусульман было из разряда запретной.
Значительная часть переселенцев относилась к рабоче-крестьянскому со-
словию, в большинстве случаев люди ехали для воссоединения со своими род-
ными, т.е., как правило, один из супругов являлся репатриантом. В книгах и
журналах, доставляемых в Синьцзян из Алма-Аты и Ташкента, рассказывалось
о колхозах, подчеркивались высокий уровень механизации, прекрасные усло-
вия работы и жизни. Мигранты ехали в СССР за лучшей долей, но колхозная
действительность оказалась ужасной: часть добытого непосильным трудом, по
рассказам респондентов, забирало государство, часть - колхозы, и только оста-
ток выдавался работникам. Мигранты, попавшие по распределению на сель-
хозпредприятия, растили и собирали урожай, занимались рубкой камыша, ра-
ботали трактористами и шоферами. Новоиспеченные колхозники претерпели
много трудностей, без всякой помощи (государственной, колхозной) построили
себе дома на выделенных под усадьбы участках. Содействие колхозов ограни-
чилось выдачей каждому домохозяйству по одному бычку. Многие переселен-
цы, не выдержав лишений, переехали в г. Алма-Ату, и здесь их жизнь постепен-
но наладилась (ПМА-1: Ахметов). В городах мигранты работали на заводах,
в частности, на Алма-Атинском домостроительном комбинате (АДК), Алма-
Атинской ковровой фабрике, фабрике “Тускииз” и др. Отдельные респонденты
отмечают, что, напротив, были довольны условиями, предоставленными на со-
ветской стороне. С. Гаппаров, например, вспоминает, что семью его родителей
(репатриантов), вернувшуюся в Советский Союз в 1959 г., хорошо встретили,
разместили в г. Панфилове, устроили на работу, оказали финансовую помощь в
размере 3 тыс. руб. на семью и 600 руб. на человека, детей определили на учебу
(ПМА-1: Гаппаров).
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
131
Только отдельные представители интеллигенции смогли найти квалифици-
рованную работу: знание китайского языка и арабской графики позволило им
стать переводчиками или даже востоковедами. Штат Отдела уйгуроведения Ин-
ститута языкознания Академии наук Казахской ССР был значительно пополнен
такими специалистами. Это были люди зрелого возраста, поэтому только неко-
торым удалось впоследствии защитить диссертацию, получить ученую степень
(к. и. н. М.И. Ерзин, к. филол. н. П. Сабитова и Р. Сабитов). Большинство же
(Б. Аршитдинов, Ю. Ходжаев, Ю. Мухлисов и многие др.) так и проработало до
пенсии в должности младшего научного или научного сотрудника.
Некоторые талантливые представители мигрантов продолжили заниматься
творчеством в Советском Союзе и здесь также добились признания. Примером
этому может служить судьба упомянуто выше З. Самади. Он был репатриантом,
его семья уехала из СССР в 1931 г. В Синьцзяне З. Самади стал известным поэ-
том, драматургом и сценаристом, его перу принадлежит ряд талантливых драм
и комедий, ставших классикой. З. Самади был государственным деятелем, за-
нимал разные посты в Восточно-Туркестанской республике, а с 1950 по 1958 г.
был министром культуры в правительстве СУАР КНР. В 1957 г. он выступил с
критикой партийного руководства, за что был смещен с должности и отправлен
под домашний арест. В 1961 г. З. Самади уехал в Советский Союз. В Казахстане
он также добился признания как писатель и драматург. В 1965 г. был издан пер-
вый в уйгурской литературе исторический роман З. Самади “Маимхан”, в 1967 г.
роман “Тайны годов” (уйг. “Жиллар сири”).
Среди мигрантов были поэты, писатели, музыканты, артисты. Коллектив
Республиканского государственного уйгурского театра музыкальной комедии
им. К. Кужамьярова в 1950-1960-е годы пополнился артистами из Синьцзяна.
Многие из них добились больших успехов и были удостоены высоких званий
и наград. В качестве примера можно привести творческую биографию народ-
ной артистки Казахской ССР Н. Маметовой12, семья которой иммигрировала в
Советский Союз в 1955 г. Подобных судеб много: это драматический артист и
певец А. Ахмади, музыкант и композитор З. Сетеков, актер С. Исраилов, тан-
цовщица А. Азизова и другие (Кадыров 1984).
На процессе адаптации неоднозначно сказалось стремление мигрантов се-
литься на тех территориях, где уже жили уйгуры, образуя в их среде свои ком-
пактные общины - островки выходцев из одних мест - и формируя таким об-
разом “китайский” сегмент. Например, в с. Аксу осели мигранты из Жагистая,
в с. Галжат - репатрианты. В рамках такой соседской общины (уйг. мәһәллə)
приехавшим удавалось долгое время сохранять общение и тесные связи. Эта
устойчивая обособленность также сказалась на имеющем место разделении уй-
гуров на “местных” (уйг. йəрлик или советлик) и “китайских” (уйг. хитайлиқ
или ғулҗилиқ - выходцы из Кульджи).
Факторы, препятствующие сближению уйгуров. Длительное время ни-
какого сближения двух групп уйгуров не происходило. Опрос “местных” уйгу-
ров показал, что, по их мнению, нежелание смешиваться исходило в большей
степени от “китайских” уйгуров (ПМА 3). Тогда как последние зачастую винят
в этом “местных” уйгуров (ПМА 1). На наш взгляд, сближения городских уйгу-
ров не произошло также вследствие разного происхождения и принадлежности
многих представителей обеих групп к разным социальным слоям: “местные”,
в отличие от “китайских”, в большинстве своем были выходцами из рабоче-
крестьянской среды. В городах и селениях имелась местная уйгурская интел-
лигенция, в основном в первом поколении, - но она была немногочисленной.
132
Этнографическое обозрение № 1, 2023
В местной среде были выходцы из зажиточных и образованных кругов - но в ус-
ловиях господствующей советской идеологии они постарались забыть свое проис-
хождение и никогда не упоминать об этом. В общей своей массе предки советских
уйгуров были земледельцами и ремесленниками, переселившимися из Кульджин-
ского края в пределы Российской империи в конце XIX в. (Karimova 2016).
Многие мигранты из горожан принадлежали к старинным родовитым и за-
житочным семьям Синьцзяна. Они получили на родине образование, работали
в различных учреждениях и жили достаточно обеспеченно. Об этом говорится
во многих интервью (ПМА-2: П.У., М.Т., А.Х., Н.К., ПМА-1: Ахметов, Махму-
дов, Йолдашев, Гаппаров). В Советском Союзе они волею судеб вынуждены
были идти на заводы, в торговлю, становиться шоферами, проводниками в по-
ездах. “Черная работа” кормила их семьи, но при этом люди никогда не забыва-
ли своего прошлого.
Зажиточные переселенцы приехали с богатым скарбом (ювелирные украше-
ния, домашняя утварь: серебряные столовые приборы, например палочки для
еды [уйг. чока], старинный китайский фарфор, подносы, посуда известных рус-
ских дореволюционных заводов, турфанские ковры, вышитые изделия и пр.).
На новом месте, а это были в основном города (Алма-Ата, Панфилов, Фрунзе,
Ташкент) или же пригородные селения, многие из них купили или построили
дома и в сложных для семьи экономических ситуациях продавали что-либо из
привезенных вещей. Так, в музейные коллекции, в частности Казахстана, попа-
ли изделия традиционных уйгурских художественных ремесел, старинный ки-
тайский фарфор - эти предметы пополнили фонды и экспозиции Государствен-
ного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева и Центрального
музея Республики Казахстан.
Отношения переселенцев с местными уйгурами были сложными, противо-
речивыми. Многие мигранты с обидой вспоминают, что их называли “китайски-
ми” или “пришлыми”, смотрели на них свысока, не приглашали на традицион-
ные мероприятия (ПМА-1: Ахметов, Махмудов, Сабитов, Гаппаров, Кахаров).
“Местные” уйгуры, напротив, рассказывают, что со стороны мигрантов чув-
ствовали к себе высокомерное отношение и, в свою очередь, пытались найти
аргументы в свою защиту: говорили, что им пришлось пройти через все тяго-
ты жизни страны (через коллективизацию, индустриализацию, гражданскую и
Отечественную войны), а иммигранты прибыли “на готовое”, подчеркивали,
что они (“местные”) были более простодушными и утратили способность к
конкурентной борьбе, а приезжие, будучи предприимчивыми, хорошо устро-
ились. Пришлые стали незаслуженно пользоваться всеми благами, жить более
обеспеченно и при этом смотреть на “местных” свысока. Кроме того, “мест-
ные” уйгуры считали себя более современными, идущими в ногу с прогрессив-
ным человечеством (ПМА 3). Противостояние между группами было довольно
напряженным, доходившим у молодежи в отдельных случаях до жестоких драк
(ПМА-1: Кибиров).
Вместе с тем в судьбе некоторых мигрантов важную позитивную роль сы-
грали именно представители “местных” уйгуров. О таких людях респонденты
вспоминают с огромной благодарностью. Так, А. Махмудов рассказал о своем
учителе Желиле Алахунове из чунджинской уйгурской школы, который первым
заметил у мальчика тягу и способности к литературе и помогал ему публиковать
свои стихи в местной газете. По настоянию учителя после получения аттестата
зрелости А. Махмудов (поскольку в г. Алма-Ате в основном окружение было
русскоязычным) уехал к родственникам в Ташкент и там продолжил учебу.
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
133
Мужчина вспоминает, сколько трудностей он претерпел, и по своей глупости в
том числе, но в конце концов окончил техникум культуры и заочно педагогиче-
ский институт. В 1980-х годах А. Махмудов вернулся в Казахстан и поселился в
с. Чунджа, административном центре Уйгурского района (ПМА-1: Махмудов).
Препятствовало слиянию двух групп уйгуров различное отношение к рели-
гии. “Местные”, также мусульмане-сунниты, относились к религии достаточно
формально, они исполняли некоторые традиционные обрядовые предписания,
но в то же время вели образ жизни, совершенно свободный от религиозных
обязанностей. Среди них было немалое число атеистов, в особенности среди
членов КПСС и ВЛКСМ. Некоторые представители городских уйгуров переста-
ли исполнять одно из основных предписаний ислама - обрезание сыновьям, что
мусульмане-мигранты считали недопустимым (ПМА-1: Гаппаров). Приезжие, в
отличие от “местных”, были довольно религиозными, вели образ жизни, пред-
писываемый истинным мусульманам: употребляли только “чистую” пищу (уйг.
һалал); старшие совершали обязательную пятикратную молитву (намаз); были
привержены традиционной обрядовой культуре - сохраняли многие элементы
традиционного быта, одежды, пищи. Для них существование без религии было
неприемлемым. В представлении советских уйгуров мигранты были “отсталы-
ми”. Таким образом, религия способствовала отчуждению сторон. И хотя неко-
торые мигранты пытались приспособиться к предъявляемым требованиям, при
этом они сохраняли свою религиозность. В одном из интервью говорится, что
отец респондента, уже будучи коммунистом, дома продолжал совершать намаз
(ПМА-1: Махмудов).
Приверженность традиционной культуре, обычаям и обрядам, быту в кон-
тексте адаптационного процесса не может быть оценена однозначно. В Совет-
ском Союзе выработался определенный, “советский” образ жизни, который че-
рез образование, средства массовой информации, через трудовые коллективы
(не важно, где человек работал, в административном учреждении или на про-
изводственном предприятии) целенаправленно внедрялся в сознание населе-
ния. Советские люди прошли через множество испытаний, участвуя в создании
своей “советской истории”, и относились к ней с большим пиететом. Счита-
лось, что жители СССР находились в процессе формирования новой общности
“советский народ”. Советские уйгуры не были исключены из этого процесса:
они приобщились к советским традициям, отмечали признанные государством
праздники, были открыты для взаимодействия с другими этносами страны.
Во дворе и в школе дети росли в полиэтничном окружении, друзья выбирались
по интересам и духовной близости, национальность при этом не бралась во
внимание. На пути к общности “советский народ” “местные” городские уйгуры
практически забыли родной язык, носителями которого еще пока оставались
старшее поколение и сельские жители. Молодые горожане в большинстве сво-
ем еще понимали бытовой уйгурский язык, но говорили и думали на русском.
Мигранты в устоявшейся советской реальности, в особенности в первые де-
сятилетия, не находили своего места. Для них это была чужая история, чужая
жизнь, чуждые праздники. При этом сама форма проведения последних - засто-
лье с обязательными алкогольными напитками - вызывала неприятие, осужде-
ние и, как следствие, вела к отчуждению. Мигранты отмечали мусульманские
праздники Роза hайт, Курбан hайт, Навруз (Новый год) и др. Только через де-
тей и внуков, которые постепенно включились в окружавшую их социальную
среду, началось приобщение мигрантов к некоторым советским традициям.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что отношение “местных” уйгуров к
134
Этнографическое обозрение № 1, 2023
алкоголю сыграло огромную роль в замедлении процесса адаптации мигран-
тов. У “местных” употребление крепких напитков “по случаю”, по праздникам,
считалось нормальным не только для мужчин, но и для женщин. Многие из
наших респондентов отмечали, что родители предостерегали их, говоря, что
уже только по этой причине не стоит входить в тесные контакты, а тем более
создавать семью с представителями “местных” уйгуров (ПМА-2: Н.К. и др.).
Еще один важный фактор на пути адаптации - это то, что мигранты обозначали
выражением “обрусевший” (уйг. орус миҗəз), т.е. воспитанный по-русски или
“не знающий обычаев” (уйг. урп-адəтни билмəйдиған), не следующий традици-
онным нормам, этикету (ПМА-1: Гаппаров). Кстати сказать, “местные” уйгуры
со временем стали употреблять выражение орус миҗəз, вкладывая в него то же
содержание. Так они выражали свое отношение к поведению некоторых пред-
ставителей своей группы.
В 1970-х годах среди “местных” городских уйгуров довольно распростра-
ненными стали межнациональные браки. Отношение приезжих к этому было
резко негативным. Они считали такие семьи “беспорядочными” (уйг. қалай-
миқан) и осуждали их. В среде “китайских” уйгуров очень серьезно подходили
к вопросам знакомства и круга общения детей. За пределами школы мальчики
и девочки контактировали с родственниками, близкими знакомыми и мигран-
тами-соседями. В этом окружении, когда дети подрастали, составлялись тради-
ционные группы для мальчиков (уйг. оттуз-оғул), проводились посиделки для
девочек (уйг. чай отуруш) и смешанные увеселительные застолья (уйг. машрап)
(Камалов 2018; Harris, Kamalov 2021: 19-22). Из этого же круга, как правило,
подбирали невест и женихов. В семьях мигрантов не было никаких конфликтов,
не возникало недоразумений, браки были устойчивыми. Этот факт укреплял
приезжих во мнении, что они все делают правильно.
Отношение к пище у обеих исследуемых групп также было различным.
У советских уйгуров сложились свои предпочтения в употреблении традицион-
ных блюд, свои особенности их приготовления, свой набор продуктов. В этом
сказался и более скромный в финансовом отношении прожиточный уровень
“местных”. Заметное влияние на питание горожан оказало взаимодействие с
другими этносами. Большое значение приобрели продукты, появившиеся на
новых местах расселения в конце XIX в.: картофель, белокочанная капуста,
свекла. В рационе закрепились распространенные в СССР блюда азиатской и
европейской кухонь. Можно сказать, что питание “местных” уйгуров претер-
пело изменения в процессе взаимовлияния различных этносов. Например, для
приготовления распространенного национального блюда - лапши с мясной под-
ливкой (уйг. лəгмəң) “местные” использовали редьку (уйг. чамғур), картофель
(уйг. янъю), чесночные стрелки (уйг. җутəйзə), томатную пасту, а мигранты -
разновидность капусты (уйг. бəсəй), распространенной в Синьцзяне, длинные
тонкие стручки фасоли (уйг. җаңду), свежие и толченые сушеные помидоры.
“Местные” из соображений экономии значительно реже готовили чисто мясные
блюда, чаще мясо сочетали с какими-либо овощами. Так, манты и гёш-нан (уйг.
манта, гөш нан) мигранты по большей части готовили только из мяса, а прак-
тически все “местные” уйгуры добавляли к нему тыкву (манты кава), джусай
(уйг. җусай), зеленый лук и пр. (ПМА 1, 3). При этом и те, и другие нещадно
критиковали кулинарные рецепты и предпочтения друг друга.
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
135
* * *
Уйгуры, в отличие от большинства репатриантов и иммигрантов других
национальностей, в условиях полиэтнического государства всегда стремились
селиться компактно, создавая моноэтничные соседские общины в отдельных
районах города или целые селения в областях. Такими “центрами притяжения”
стали окраины г. Алматы (до сих пор в народе сохранились старые названия
районных поселений - Султан-курган, Горный гигант, Дружба, Заря Востока),
Уйгурский район, г. Жаркент (бывш. Панфилов), селения Чилик, Аксу, Большое
Аксу и мн. др. в Алматинской области, где основной массив населения еще во
второй половине прошлого века составляли уйгуры. Моноэтничность посте-
пенно была размыта плановыми застройками, расселением репатриантов дру-
гих национальностей и пр. Однако, даже покидая эти уже привычные места
проживания, уйгуры селились рядом с уйгурами. Так произошло и с пересе-
ленцами 1950-1960-х годов. Распределенные по колхозам и совхозам в разных
областях Казахстана, они почти все со временем переехали в Алматы, Алматин-
скую область, Бишкек и Ташкент и пополнили уйгурские махалли.
Несмотря на перечисленные негативные факторы, процесс адаптации неиз-
менно развивался. Можно сказать, для “китайских” уйгуров в Казахстане он в
целом завершился ко времени распада СССР и в первые десятилетия существо-
вания суверенного государства. Это заметно по третьему поколению переселен-
цев 1950-1960-х годов. В позднесоветское время дети мигрантов-горожан по-
лучили высшее или как минимум среднее специальное образование. Благодаря
трудолюбию, предприимчивости, взаимной поддержке и наработанным связям
они устроились на хорошую работу. Общение мигрантов, их детей и внуков
стало более широким и разнообразным. Тем не менее на внутрисемейном уров-
не оно и сейчас ограничивается в основном сформированным еще родителями
кругом родных и знакомых. За десятилетия, прошедшие после переселения,
между “китайскими” и “местными” уйгурами заключено (больше всего в поко-
лении внуков и правнуков) множество семейных союзов. Участившиеся меж-
национальные браки среди потомков мигрантов заставили и старшее поколение
пересмотреть свое отношение к “местным” уйгурам. Сейчас старики рады вос-
соединению хоть и с “местными”, но все же уйгурами. Такие браки более всего
способствуют стиранию различий между представителями двух групп.
Нельзя сказать, что все несходства огульно критиковались и отвергались в
противостоящих группах уйгурского населения Казахстана. “Местные” пони-
мали, что мигранты являются носителями нетронутой ассимиляцией традици-
онной культуры, что они способствуют возрождению в значительной степени
утраченных на пути строительства социализма знаний и навыков, а главное -
родного уйгурского языка. Мигранты помогли советским уйгурам замедлить
процесс ассимиляции (этнической и культурной), вернуться к родной культуре,
в том числе обрядовой, осознать важность сохранения национальной идентич-
ности. Приехавшие, со своей стороны, понимали, что в процессе адаптации
“местные” уйгуры могут служить проводниками в советское общество, они с
уважением относились к представителям местной интеллигенции, признавая
их достижения.
Таким образом, существующее в Казахстане разделение на “китайских” и
“местных” уйгуров возникло в результате миграции представителей этого на-
рода из Китая в СССР в 1950-1960-е годы. “Китайский” сегмент в уйгурской
общине Казахстана - явление достаточно ощутимое и устойчивое, с выражен-
136
Этнографическое обозрение № 1, 2023
ной культурной спецификой. При этом, как описано выше, “китайские” уйгуры
не стремились к объединению с местным контингентом. На протяжении де-
сятилетий жизнь этих двух групп протекала во многом обособленно, пересе-
каясь лишь по необходимости (родственные связи, общинные и родственные
мероприятия, общее место работы). Процесс адаптации “китайских” уйгуров
затянулся как минимум на два поколения - самих мигрантов и их детей, часть
которых родилась в СУАР КНР. В настоящее время казахстанские уйгуры сохра-
няют память о своей принадлежности к одной из групп (ПМА-1: Махмудов, Ки-
биров), но все это потеряло прежние актуальность и остроту. Различия между
“местными” и “китайскими” уйгурами все больше сводятся к этнографическим
культурно-бытовым особенностям, обусловленным различными жизненными
условиями. Государственная политика формирования гражданской идентич-
ности в Казахстане также способствует стиранию граней между локальными
группами уйгурского этноса (Камалов 2016: 92-100).
Примечания
1 Синьцзян - Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной
Республики, исторический Восточный Туркестан, завоеванный Цинской импе-
рией во второй половине XVIII в.
2 Кульджа (уйг. Ғулҗа, совр. Инин) - город на северо-западе Синьцзян-
Уйгурского автономного района, расположен на р. Или вблизи казахстанско-
китайской границы.
3 Хоргос - село в Панфиловском районе Алматинской области Республики
Казахстан, а также погранзастава и контрольно-пропускной пункт на казах-
станско-китайской границе.
4 Сары-Озек (Сарыозек) - село, административный центр Кербулакского
района Алматинской области Казахстана.
5 ВТР - Восточно-Туркестанская республика, существовавшая на террито-
рии трех северных округов (Или, Алтай и Тарбагатай) провинции Синьцзян
Китая в 1944-1949 гг.
6 Зия Ибадатович Самади родился в 1914 г. в с. Ханихай Панфиловского
района Талды-Курганской области. Много лет был литконсультантом по уйгур-
ской литературе при Союзе писателей Казахстана. Начало творческой деятель-
ности писателя относится к 1934 г., когда он написал пьесу “Кровавое пятно”.
Основные драматические произведения: “Гарип и Санам”, “Мать”, “Секрет”,
“Суровая минута”, “В тюрьме”, “Конец деспота”.
7 Фрунзе - ныне г. Бишкек, столица Республики Кыргызстан.
8 Панфилов - ныне г. Жаркент Республики Казахстан.
9 Чу - Шу, узловая железнодорожная станция на линии Алма-Ата - Тараз.
10 Отар - село в Отарском районе Жамбылской области Казахстана.
11 Иссык-Куль - имеется в виду самый восточный регион Киргизии, ныне
Иссык-Кульская область Республики Кыргызстан.
mametova-narodnya-artistka-kazakhstan-ssr (дата обращения: 09.02.2022).
Источники и материалы
ЦГА РК-1 - Центральный государственный архив Республики Казахстан.
Ф. И-64. Оп. 1. Д. 4852, 4854, 4861, 4954.
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
137
ЦГА РК-2 - Центральный государственный архив Республики Казахстан.
Ф. И-44. Оп. 1. Д. 67.
ПМА 1 - Полевые материалы автора 2021-2022 гг. Опрос уйгуров, жителей
г. Алматы, иммигрировавших в СССР в 1950-1960 годы, а также их по-
томков (респонденты: Кудат Ахметов, 80 лет; Шамшидин Масимахун,
88 лет; Алмасхан Йолдашев, 89 лет; Сабир Гаппаров, 82 года; Турсун Кахаров,
85 лет; П. Каримова, 1956 г.р.; С. Калпетходжаева, 1963 г.р.; Х. Турдиева,
1963 г.р.; Р. Разиева, 1952 г.р.; Т. Каримова, 1940 г.р.; Т. Аблизова, 1949 г.р.),
выходцев из Кульджинского уезда (респонденты: Абдухалик Махмудов,
76 лет; Ярмухаммед Кибиров, 71 год); выходца из Урумчи (респондент
Абдукерим Сабитов, 87 лет).
ПМА 2 - Полевые материалы автора. Интервью уйгуров, выходцев из Кульджи
(анонимные респонденты: П.У.,
72 года; М.Т.,
66 лет; Х.,
87 лет;
Н.К., 65 лет).
ПМА-3 - Полевые материалы автора 2021-2022 гг. Опрос местных уйгуров,
жителей г. Алматы, потомков переселенцев конца XIX в. (респонденты:
Х. Усманова, 1934 г.р.; Г.С. Каримова, 1931 г.р.; Г. Хаджиева, 1964 г.р.;
Х. Шеретова, 1958 г.р.; Ш. Рузиева, 1938 г.р.; А. Камилова, 1956 г.р.; Р. Кари-
мова, 1950 г.р.; Г. Ескендирова, 1949 г.р.; А. Арзиева, 1962 г.р.; З. Каримова,
1976 г.р.; Х. Масимова, 1977 г.р.; З. Баратбаева, 1949 г.р.; Г. Аутова, 1964 г.р.,
Ш. Баратова, 1980 г.р.; А. Баратбаев, 1945 г.р.).
Таарих-и Эмэние 1905 - История владетелей Кашгарии, сочинение Муллы
Мусы бен муллы Айса, сайрамца. Казань: Издание Н.Н. Пантусова, 1905.
Научная литература
Аблажей Н.Н. Масштабы и последствия возвратной миграции из Китая в СССР //
Сибирское общество в контексте модернизации XVIII-XX вв. Сборник ма-
териалов конференции (22-23 сентября 2003 г., Новосибирск) / Отв. ред.
В.А. Ламин. Новосибирск: НГУ, 2003. С. 167-175.
Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-
Петербургского договора
1881 года. М.: Памятники исторической
мысли, 1995.
Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар. М.: Наука, 1981.
Кадыров А.Н. Уйгурский советский театр. Алма-Ата: Онер, 1984.
Камалов А.К. Уйгуры Казахстана. Астана: Академия государственного управле-
ния при Президенте РК, 2016.
Скачков П.Е., Мясников В.С. (сост.) Русско-китайские отношения, 1689-1916:
официальные документы. М.: Восточная литература, 1958.
Селицкий И.В. Кульджинские переселенцы пограничной с Китаем полосы //
Известия общества археологии, истории и этнографии при Императорском
Казанском университете. 1904. Т. ХХ. Вып. 6.
Федоров Д. Опыт военно-статистического описания Илийского края. Ч. II.
Ташкент: Издание Штаба ТуркВО, 1903.
Ходжаев А. Захват цинским Китаем Джунгарии и Восточного Туркестана.
Борьба против завоевателей // Китай и соседи в новое и новейшее время /
Отв. ред. С.Л. Тихвинский. М.: Наука, 1982. C. 153-195.
Clark W., Kamalov A. Uighur Migration across Central Asian Frontiers // Central
Asian Survey. 2004. Vol. 23. No. 2. P. 167-182.
Harris R., Kamalov A. Nation, Religion and Social Heat: Heritaging Uyghur
138
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Mäshräp in Kazakhstan // Central Asian Survey. 2021. Vol. 40. No. 1. P. 9-33.
Hsü I. The Ili Crisis: A Study of Sino-Russian Diplomacy, 1871-1881. Oxford:
Clarendon Press, 1965.
Kamalov A. Birth of Uyghur National History in Semirech’ye // Oriente Moderno.
Kamalov A. Identity of Kazakhstan’s Uyghurs: Migration, Homeland, and
Language // Central Asian Affairs. 2021. Vol. 8. No. 4. Р. 319-345. https://
doi.org/10.30965/22142290-12340011
Karimova R.U. On the History of Cultural Traditions Transformation: Arts and Crafts
of Kazakhstani Uighurs // Oriente Moderno. 2016. No. 96 (1). P. 3-24. https://
doi.org/10.1163/22138617-12340092
Kim H. Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia,
1864-1877. Stanford: Stanford University Press, 2004.
Perdue P. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge:
Harvard University Press, 2005.
Roberts S. The Uighurs of the Kazakstan Borderlands: Migration and the Nation //
Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 1998. Vol. 26.
No. 3. P. 511-530.
R e s e a r c h A r t i c l e
Karimova, R.-B.U. Formation of the
“Chinese” Segment in the Uyghur
Community of Kazakhstan in the Context of the Adaptation of Immigrants from
China to the USSR in the 1950-1960s [Formirovanie “kitaiskogo” segmenta v
uigurskoi obshchine Kazakhstana v kontekste adaptatsii pereselentsev iz Kitaia v
SSSR v 1950-1960-e gody]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 1, pp. 123-140.
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS]
Risalat-Bibi
Karimova
|
|
risalat.karimova@mail.ru | The R.B. Suleimenov Institute of Oriental Studies
(29 Kurmangazy St., Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan)
Keywords
USSR, China, Kazakhstan, migration, Uighurs, adaptation, Chinese segment
Abstract
The article examines specific features of adaptation of migrants, focusing on the
case of the Uyghurs of Kazakhstan who moved from China to the USSR in the
1950-1960s. Migration from China to the USSR of that period was a top-down
process; it was carried out according to an agreement between the governments of
the two countries and in line with a general plan within the framework of repatriation
campaign pursued by the Soviet government. It also was directly linked to the virgin-
and-fallow-lands development campaign in Kazakhstan and was supposed to alleviate
labor shortages. Adaptation of migrants to the Soviet environment was shaped in
different ways and was specific for each ethnic group. For the Uyghurs, one of the
important consequences of the adaptation was a formation of the “Chinese” segment
in the Uyghur community of Kazakhstan.
Каримова Р.-Б.У. Формирование “китайского” сегмента в уйгурской общине...
139
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan [number AR08856731]
(project “Oral History of Migration of the 1950-1970s from China to Kazakhstan)
References
Ablazhei, N.N. 2003. Masshtaby i posledstviia vozvratnoi migratsii iz Kitaia v
SSSR [The Scale and Consequences of Return Migration from China to the
USSR]. In Sibirskoe obshchestvo v kontekste modernizatsii XVIII-XX vv. Sbornik
materialov konferentsii (22-23 sentiabria 2003 g., Novosibirsk) [Siberian
Society in the Context of Modernization of the 18th-20th Centuries: Conference
Proceedings (September 22-23, 2003, Novosibirsk)], edited by V.A. Lamin,
167-175. Novosibirsk: NGU.
Clark, W., and A. Kamalov. 2004. Uighur Migration across Central Asian Frontiers.
Central Asian Survey 23 (2): 167-182.
Isiev, D.A. 1981. Uigurskoe gosudarstvo Iettishar [The Uyghur State of Eyettishar].
Moscow: Nauka.
Fedorov, D. 1903. Opyt voenno-statisticheskogo opisaniia Iliiskogo kraia [Experience
of the Military-Statistical Description of the Ili Region]. Pt. II. Tashkent: Izdanie
Shtaba TurkVO.
Harris, R., and A. Kamalov. 2021. Nation, Religion and Social Heat: Heritaging
Uyghur Mäshräp in Kazakhstan. Central Asian Survey
40
(1):
9-33.
Hsü, I. 1965. The Ili Crisis: A Study of Sino-Russian Diplomacy, 1871-1881. Oxford:
Clarendon Press.
Kadyrov, A.N. 1984. Uigurskii sovetskii teatr [Uighur Soviet Theater]. Alma-Ata:
Oner.
Kamalov, A.K. 2016. Uigury Kazakhstana [Uighurs of Kazakhstan]. Astana:
Akademiia gosudarstvennogo upravleniia pri Prezidente RK.
Kamalov, A. 2016. Birth of Uyghur National History in Semirech’ye. Oriente
Kamalov, A.
2021.
Identity
of Kazakhstan’s Uyghurs: Migration,
Homeland, and Language. Central Asian Affairs
8
(4):
319-345.
Karimova, R.U. 2016. On the History of Cultural Traditions Transformation:
Arts and Crafts of Kazakhstani Uighurs. Oriente Moderno 96 (1): 3-24.
Khodzhaev, A. 1982. Zakhvat tsinskim Kitaem Dzhungarii i Vostochnogo Turkestana.
Bor’ba protiv zavoevatelei [The Capture by Qing China of Dzungaria and East
Turkestan: Battle against Conquerors]. In Kitai i sosedi v novoe i noveishee
vremia [China and Neighbors in Modern and Contemporary Times], edited by
S.L. Tikhvinskii, 153-195. Moscow: Nauka.
Kim, H. 2004. Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese
Central Asia, 1864-1877. Stanford: Stanford University Press.
Perdue, P. 2005. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia.
Cambridge: Harvard University Press.
Roberts, S. 1998. The Uighurs of the Kazakstan Borderlands: Migration and the
Nation. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity 26 (3):
511-530.
140
Этнографическое обозрение № 1, 2023
Skachkov, P.E., and V.S. Miasnikov, eds. 1958. Russko-kitaiskie otnosheniia,
1689-1916: ofitsial’nye dokumenty [Russian-Chinese Relations, 1689-1916:
Official Documents]. Moscow: Vostochnaia literatura.
Selitskii, I.V. 1904. Kul’dzhinskie pereselentsy pogranichnoi s Kitaem polosy [Kuldzha
Settlers of the Border Strip with China]. Izvestiia obshchestva arkheologii, istorii i
etnografii pri Imperatorskom Kazanskom universitete XX (6).
Voskresenskii, A.D. 1995. Diplomaticheskaia istoriia russko-kitaiskogo Sankt-
Peterburgskogo dogovora 1881 goda [Diplomatic History of the Russian-Chinese
St. Petersburg Treaty of 1881]. Moscow: Pamiatniki istoricheskoi mysli.