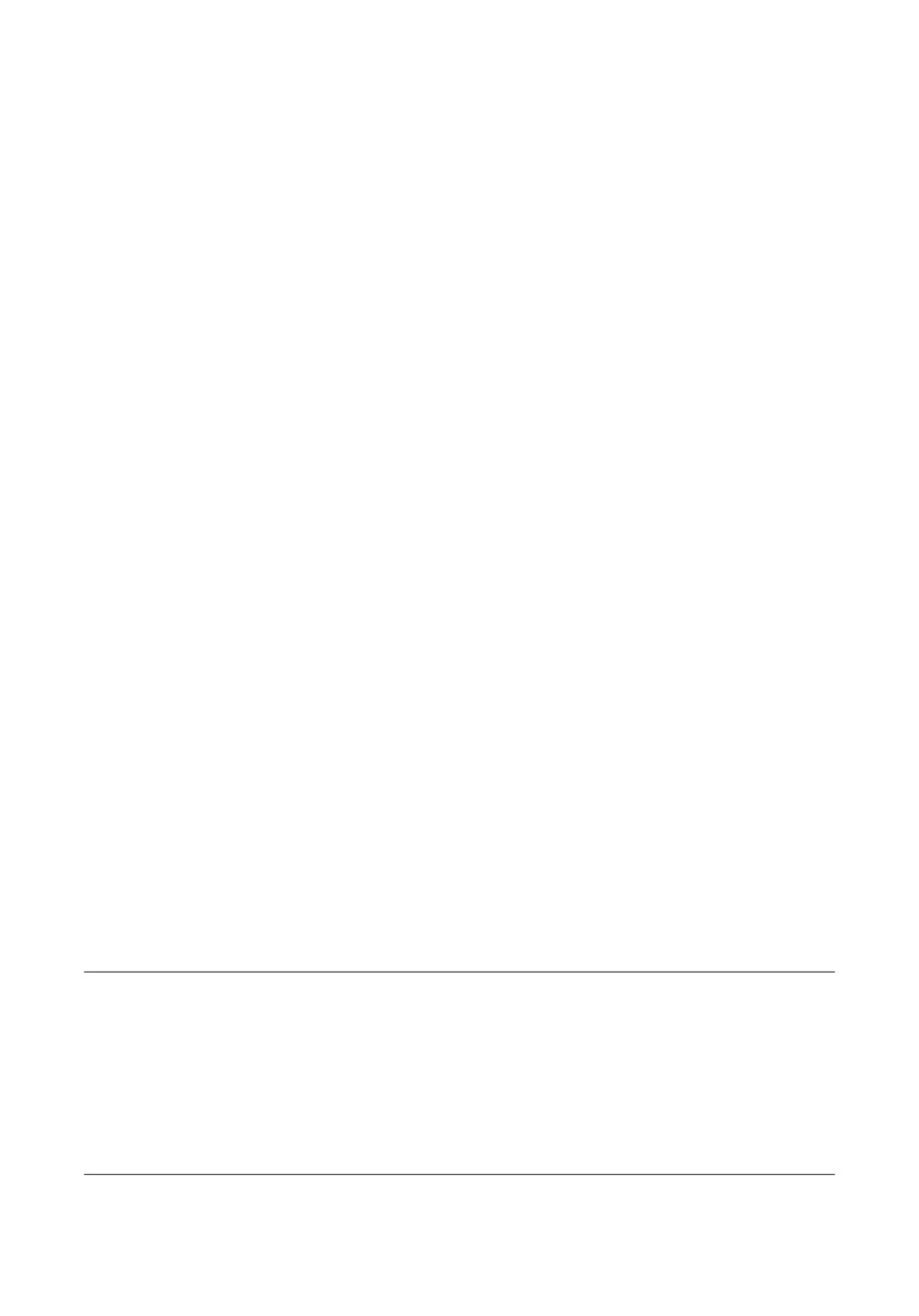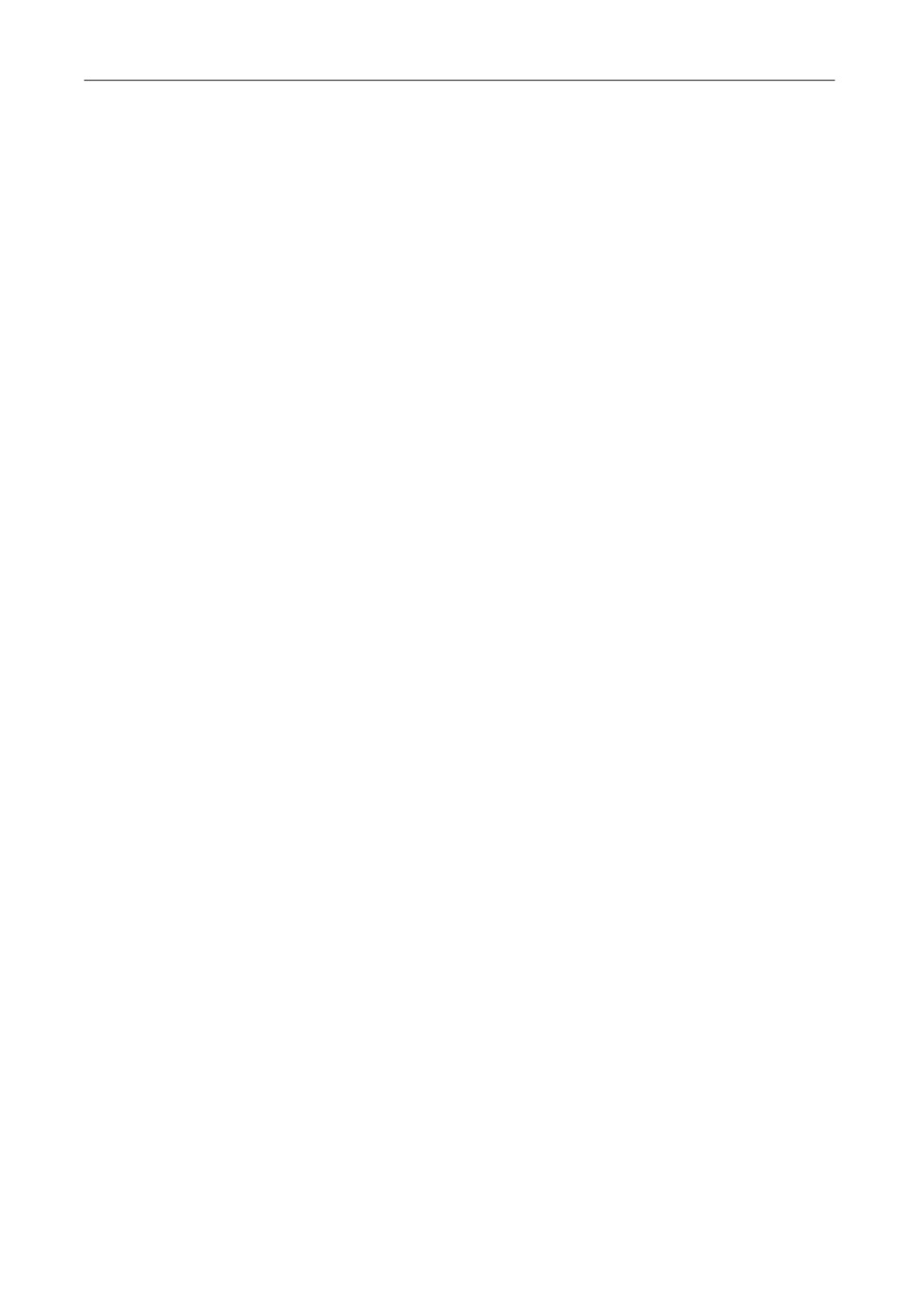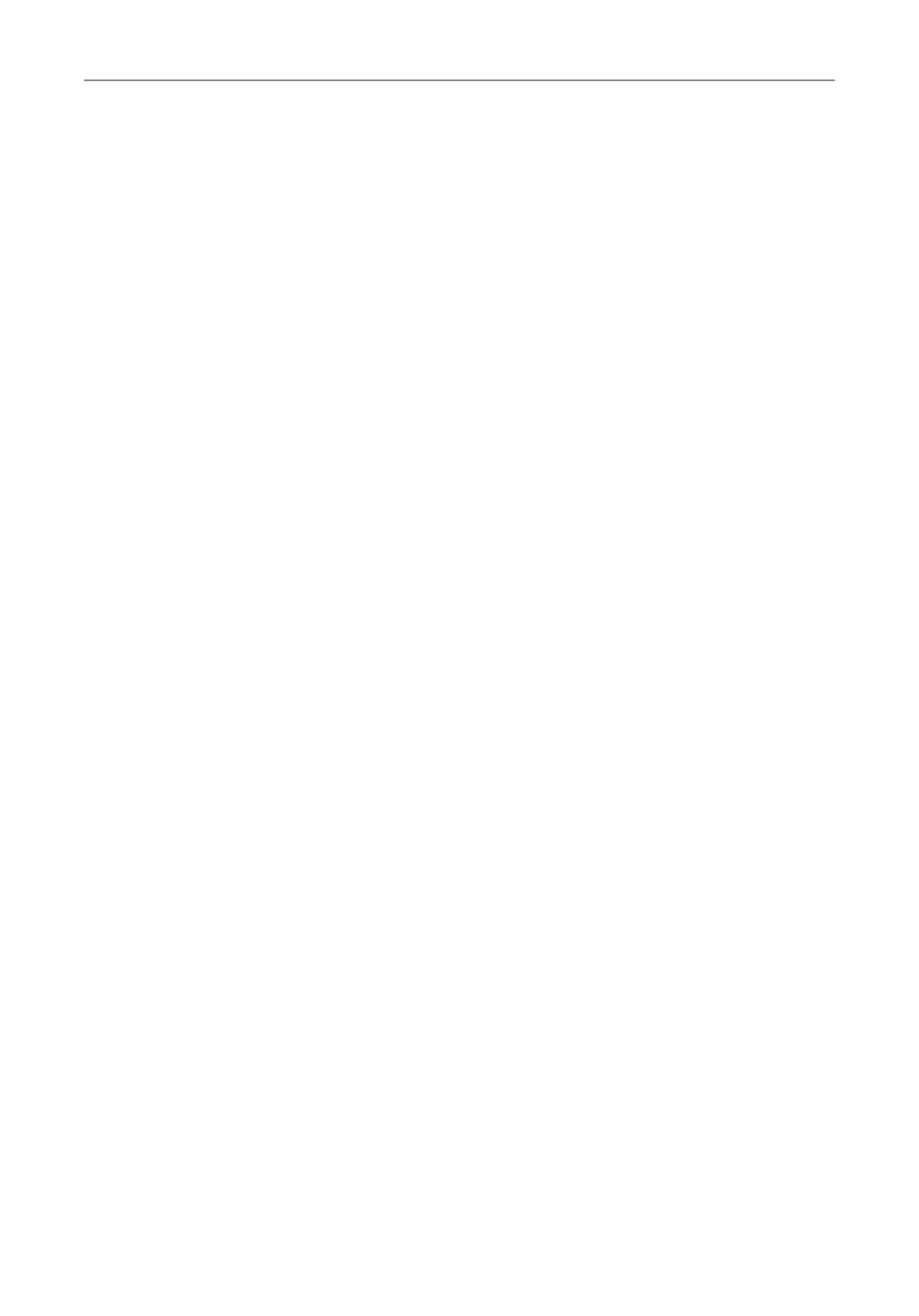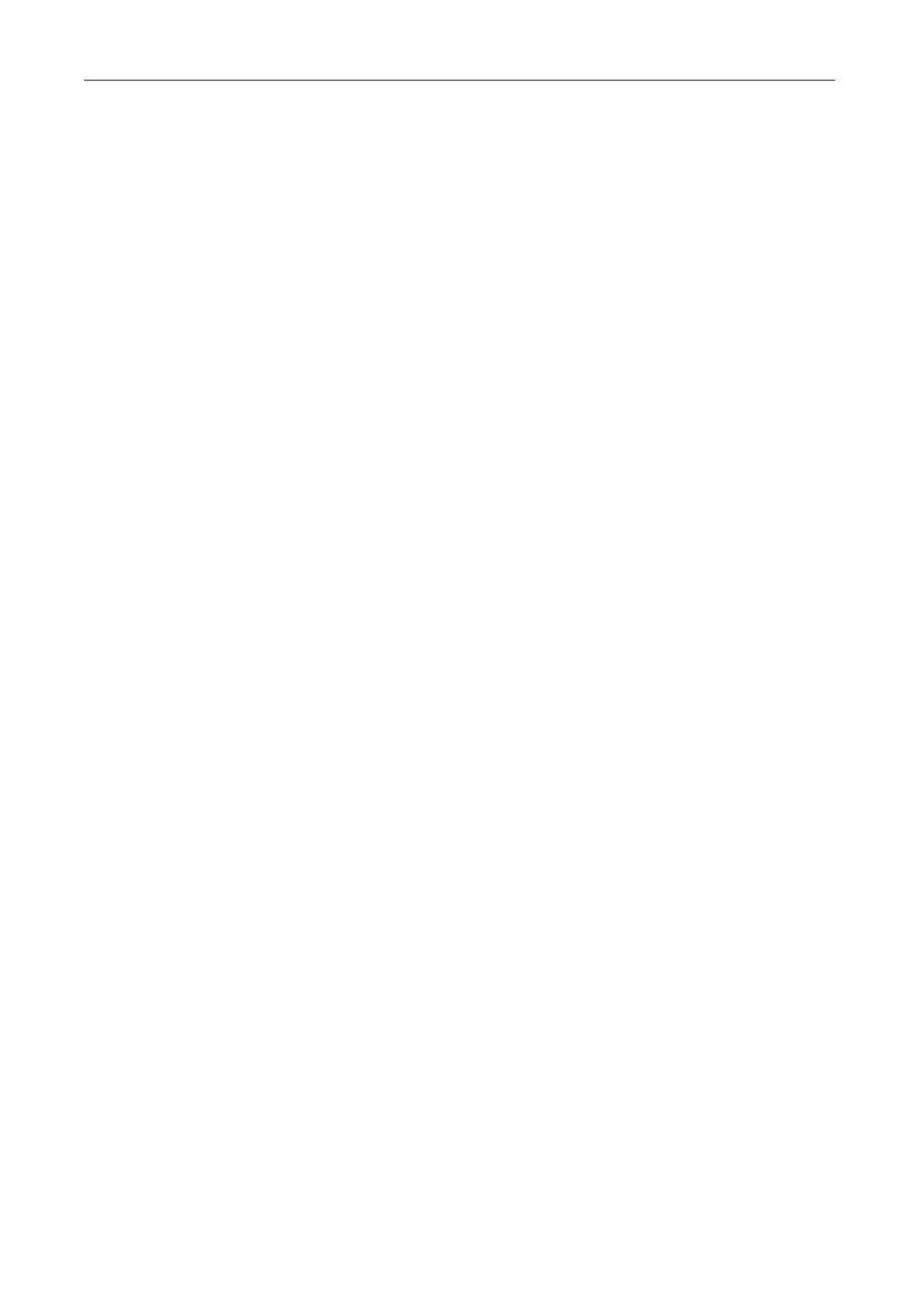КРЕСТЬЯНЕ, ИКОНЫ И МАТЕРНАЯ БРАНЬ
А.А. Панченко
Александр Aлександрович Панченко
|
|
apanchenko2008@gmail.com | д. филол. н., профессор | Европейский университет в
Санкт-Петербурге (ул. Гагаринская 6/1a, Санкт-Петербург, 191187, Россия) | Инсти-
тут русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (наб. Макарова 4, Санкт-Петербург,
199034, Россия) | Тартуский университет (ул. Юликооли 18, Тарту, 50090, Эстония)
Ключевые слова
матерная брань, богохульство, святотатство, история русской культуры, дисциплинар-
ная революция, культы чудотворных икон, культы сакральных локусов, эсхатология,
моральные паники
Аннотация
В статье рассматриваются различные религиозные, ритуальные и моральные контексты,
определявшие семантические, социальные и культурные траектории представлений о
матерной брани в России Нового и Новейшего времени. Эссенциальное и лишенное
исторического измерения восприятие “русского мата” как устойчивого набора лексем и
формул представляется некорректным. Более того, стоит задуматься не только об исто-
рических трансформациях этого понятия, но и о его генеалогии и даже, так сказать,
изобретении. Одна из немногих последовательных концепций касательно религиоз-
но-мифологического значения русской матерной брани была сформулирована в 1980-е
годы Б.А. Успенским, полагавшим, что сквернословие в дохристианской культуре славян
было связано с магией плодородия. В настоящей статье предлагается альтернативная
гипотеза, согласно которой “изобретение” и религиозное прочтение “матерной лаи” как
особого и святотатственного вида сквернословия происходит в Московском государстве
в XVI-XVII вв. в контексте попыток “дисциплинарной революции” в сфере религиоз-
ной культуры, повседневных обычаев и ритуальных практик. Крестьянские визионер-
ские эпидемии XVII в., включавшие запреты на матерную брань, употребление табака
и пьянство, представляли собой своеобразные моральные паники, обусловленные дис-
циплинарной политикой государства и церковных элит, но вместе с тем функционально
ориентированные на создание либо развитие новых культов чудотворных икон и са-
кральных локусов. Крестьянские верования и запреты, связанные с матерной бранью
в XIX-XX вв., имели, по-видимому, полигенетическую природу и не были связаны с
единым дохристианским источником.
Информация о финансовой поддержке
Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов
Статья поступила 24.11.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 15.03.2023
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань // Этнографическое обозрение. 2023. № 2.
Panchenko, A.A. 2023. Krest’iane, ikony i maternaia bran’ [Peasants, Icons, and Obscenities].
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
22
Этнографическое обозрение № 2, 2023
отя к настоящему времени существует ряд лингвистических, антропо-
логических и культурно-исторических исследований, посвященных
Х
русскому мату, т.е. табуированной обсценной лексике и фразеологии
(последний по времени обзор проблематики и научной литературы см.: Пиль-
щиков 2021), эта тема остается малоизученной и в силу фрагментарности лек-
сикографических, исторических и этнографических источников, и вследствие
довольно низкого уровня исследовательской рефлексии касательно антрополо-
гических и социолингвистических аспектов брани, клятвы и проклятия, бого-
хульства и языковых табу в истории русской культуры.
Так обстоит дело и с религиозно-мифологическими контекстами обсценной
лексики и фразеологии. Одна из немногих последовательных концепций в этой
области1 была сформулирована в 1980-е годы Б.А. Успенским, полагавшим, что
сквернословие в дохристианской культуре славян было связано с магией пло-
дородия. Сопоставляя гипотетический ритуальный смысл матерных выраже-
ний с античной “эсхрологией”, исследователь предположил, что в языческую
эпоху они, по-видимому, были связаны с представлениями об оплодотворении
земли, а затем подвергались “разнообразным переосмыслениям (семантическим
трансформациям), обусловленным включением в разные мифологические коды”
(Успенский 1996: 63)2, в том числе христианские. Реконструкция древнейшей
семантики и последующих переосмыслений матерных формул была предпри-
нята исследователем на материалах русской письменности преимущественно
XVI-XVII вв., а также фольклорно-этнографических материалов XIX-XX вв.,
и при этом обсуждалась в контексте предложенной Вяч.Вс. Ивановым и
В.Н. Топоровым концепции генезиса и эволюции индоевропейской мифологии
(так наз. теория основного мифа). В результате получалась следующая картина:
На глубинном (исходном) уровне матерное выражение соотнесено, по-видимому, с ми-
фом о сакральном браке Неба и Земли - браке, результатом которого является оплодот-
ворение Земли. На этом уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении
должен пониматься Бог Неба, или Громовержец, а в качестве объекта - Мать Земля.
Отсюда объясняется связь матерной брани с идеей оплодотворения… На этом уровне
матерное выражение имеет сакральный характер, но не имеет характера кощунственно-
го. <…> На другом - относительно более поверхностном - уровне в качестве субъекта
действия в матерном выражении выступает пес, который вообще понимается как про-
тивник Громовержца. <…> Соответственно, матерная брань приобретает кощунствен-
ный характер. На этом уровне смысл матерного выражения сводится к идее осквернения
земли псом, причем ответственность за это падает на голову собеседника. <…> На сле-
дующем… уровне в качестве объекта матерного ругательства мыслится женщина, тогда
как пес остается субъектом действия. На этом уровне происходит переадресация от ма-
тери говорящего к матери собеседника, то есть матерная брань начинает пониматься как
прямое оскорбление… Наконец, на наиболее поверхностном и профаническом уровне
в качестве субъекта действия понимается сам говорящий, а в качестве объекта - мать
собеседника (Успенский 1996: 63-64).
Идеи, высказанные Б.А. Успенским, продолжают пользоваться популярно-
стью у российских исследователей и сегодня. Так, А.Б. Мороз пишет по этому
поводу:
В основательной работе, посвященной мифологическому аспекту матерной брани,
Б.А. Успенский отмечает абсолютный характер запрета на использование мата - вне за-
висимости от контекста (серьезного, шуточного, метатекстового), что, по мнению ав-
тора, свидетельствует о культовом характере матерщины. На то же указывает широкое
применение матерной брани в разных обрядах “языческого происхождения”. На много-
численных примерах Б.А. Успенский показывает, в частности, что уже в XV в. матерщи-
на воспринималась как бесовская речь и осуждалась наравне с “языческими обрядами и
обычаями” (Мороз 2021: 81).
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
23
И.А. Пильщиков полагает, что
общий вывод Б.А. Успенского о процессе десакрализации и профанизации мата пред-
ставляется убедительным. Ритуальные тексты постепенно теряли связь с ритуалами и
начинали функционировать самостоятельно, приобретая новые функции. По всей види-
мости, это происходило не только с матерной идиоматикой, но и с другими нарративами,
предположительно отколовшимися от мифа и ритуала… Утратив связь с ритуалом, мат
начал развивать свои экспрессивные и обсценные потенции (Пильщиков 2021: 713).
Из похожих методологических принципов исходил и В.Ю. Михайлин, свя-
зывавший, впрочем, генезис матерных идиом не с аграрными ритуалами, а с ар-
хаической мифологией воинских мужских союзов и считавший формулу canis
matrem tuam subagitet средством «магического “уничтожения” оппонента»:
С точки зрения территориально-магических коннотаций, смысл ее сводится к следую-
щему. Мать оппонента была осквернена псом - причем разница между воином-псом
и животным рода canis не просто не существенна. Ее не существует. Следовательно,
оппонент нечист, проклят и - фактически - уже мертв сразу по трем позициям (Михай-
лин 2005: 82-83).
Мне, однако, реконструкции такого рода представляются спорными и с
теоретической, и с источниковедческой точки зрения3. Прежде всего, эволю-
ционистская модель, где известная нам по материалам Средних веков и Но-
вого времени культурная реальность, объясняется “десакрализацией”, дегра-
дацией, контаминацией или фрагментацией некогда целостных архаических
“мифа и ритуала”, вряд ли может сегодня считаться убедительной и тем бо-
лее исчерпывающей. Так же обстоит дело и с обсессивным акцентом на “ма-
гию плодородия”, привнесенным в культурно-исторические реконструкции
Дж.Дж. Фрэзером. Еще меньше оснований имеется у нас для рассуждений о,
скажем так, историческом подсознании культуры, позволяющем опознавать
гипотетическую древнейшую семантику по якобы сохранившимся “пережит-
кам”. Образ древних (пра)славян или (пра)славянок, всерьез думающих, что
они способствуют “сакральному браку неба и земли” при помощи матерных
формул, выглядел бы, наверное, привлекательно для немецких филологов
эпохи Романтизма, писателей-модернистов начала XX в. или современных
язычников, но вряд ли найдет отклик у антрополога, занимавшегося полевой
работой в земледельческих общинах. Иллюзии такого рода применительно к
аграрной магии и ритуалистике были развеяны уже Б. Малиновским, однако
именно на них основаны мифологические реконструкции Вяч.Вс. Иванова и
В.Н. Топорова, с которыми солидаризировался Б.А. Успенский.
Одна из наиболее уязвимых черт подобных реконструкций - небрежное
обращение с относительно недавними культурно-историческими материала-
ми, выражающееся в игнорировании их контекстов и произвольной “подгон-
ке” разрозненных данных под метаисторическую дедуктивную схему. Так, на
мой взгляд, обстоит дело и в обсуждаемой работе Б.А. Успенского. Ниже я по-
пробую более последовательно и систематически оценить использованные им
источники, однако сначала нужно сделать еще одно замечание методологиче-
ского характера.
Сквернословие - т.е. в той или иной степени социально табуированные лек-
сика и фразеология - включает довольно разные в прагматическом отношении
классы формул и соответствующих им коммуникативных (а также ритуальных)
ситуаций (инвективы, проклятие, клятва, божба и богохульство и т.п.). В этом
контексте эссенциальное и лишенное исторического измерения представление
о “русском мате” как диахронно устойчивом наборе лексем и формул следует
24
Этнографическое обозрение № 2, 2023
признать некорректным. Более того, стоит задуматься не только об историче-
ских трансформациях этого понятия, но и о его генеалогии и даже, так ска-
зать, изобретении. Настоящая работа задумана как первая из серии статей, где
рассматриваются различные религиозные, ритуальные и моральные контексты,
определявшие семантические, социальные и культурные траектории представ-
лений о матерной брани в России Нового и Новейшего времени.
“Матернее лаяние” и русская культура XVI-XVII вв.
Как напоминают И.А. Пильщиков и Д.Г. Иоффе (ср.: Вечеслова 2007: 97),
связь “мата” и “матери” - опосредованная, этимологически они не родственны, однако
ассоциируются друг с другом паронимически и семантически. Мат в современном язы-
ке - это ‘грубая брань’, но первоначально это слово обозначало ‘громкий голос, крик’;
такое значение сохранилось в белорусском языке, в русских диалектах, а также в обще-
русской идиоматике - в выражении “кричать благим матом” (Пильщиков, Иоффе 2021:
695-696).
Одна из возможных этимологий связывает это значение с общеславянским
глаголом *matati (в числе прочего “страшить, пугать”) (ЭССЯ 1993: 10-11;
ЭССЯ 1990: 235-236). В результате в русских говорах встречаем не только “бла-
гой”, но и “божий”, “лихой”, “дурной”, “недаровой”, “непутный” мат (СРНГ
1982: 19-20). Диалектные матить и матиться в этом смысле корреспонди-
руют с глаголами ротить (“бранить, ругать, клясть, проклинать”) и ротиться
(“клясться, божиться, присягать”) (СРНГ 2001: 204-205), восходящими к древ-
нерусскому обозначению клятвы. Когда именно в истории русского языка про-
изошла семантическая ассоциация мата как громкого крика (с инвективными
либо ритуальными целями) и бранных выражений с “материнской темой”, ска-
зать, на первый взгляд, сложно, но вряд ли она была устойчивой везде и всегда.
Тем не менее мы можем попытаться хотя бы отчасти проследить генеалогию ас-
социаций такого рода по известным нам письменным памятникам XV-XVII вв.
Судя по всему, бранные формулы, обращенные к родителям (и, соответ-
ственно, нарушающие пятую заповедь Декалога4) либо оскорбляющие отца и
мать адресата, действительно обладали особым статусом в древнерусской куль-
туре или приобрели его в какой-то период. Это выделяет их в контексте табуи-
рованной “срамословной” лексики. В тексте, связанном с именем митрополита
Петра (ум. 1326; “Третье поучение Петра митрополита всея Руси”) и обращен-
ном “к епископом, и попом, и архимандритом, и игуменом, и дьяконом, и ко
всем православным крестьяном”, говорится: “Аще учите детей духовных от
сквернословья, неподобно что лают отцем или матери, занеже того в крестья-
нех нет” (ПСЛ 1862: 187). Далее поучение запрещает “баять басни” и прини-
мать “лихих баб”, занимающихся ворожбой и гаданием (Там же). Те же запреты
с некоторыми вариациями (“лаяти именем отцевым и материным”, “лаются от-
цевым и матерным”) повторяются в посланиях митрополита Фотия в Новгород
и Псков 1410-1417 гг. (РИБ 1880: 274, 282-283).
Первым древнерусским текстом, где предлагаются и семантическое объясне-
ние, и религиозная критика матерной брани как особого типа инвектив, можно
считать “Поучение против сквернословия” старца Волоколамского монасты-
ря Фотия (ум. 1554) (ПСЛ 1862: 189-191). Здесь прямо указывается, что под
“матерней лаией” следует понимать конкретное выражение “блядин сын”, и
разъясняется, в чем состоит его кощунственный смысл: поскольку все люди,
принявшие святое крещение, нарицаются сыновьями божьими и братьями о
Христе, подобное обращение фактически адресуется не конкретному человеку, но
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
25
самому Богу: “Ино то мы не брату своему сие скаредное и гнусное глаголем слово,
но Господу Богу своему досажаем, яко Господа Бога отца себе нарицаем, темже
скверным словом ему и согрешаем и его святое имя на гнев зело воздвизаем и в
том негодование на себе от Бога наводим” (ПСЛ 1862: 189). По словам Фотия, при
Иосифе Волоцком в их монастыре так браниться было не принято, “ныне же зело
умножилося то скверное слово во многих братиях” (ПСЛ 1862: 190).
Б.А. Успенский замечает по этому поводу, что “выражение блядин сын пер-
воначально, по-видимому, не отождествлялось с матерщиной и само по себе
не являлось предосудительным, т.е. не относилось к разряду непристойных
выражений” (Успенский 1996: 17). О том, что эта и подобные формулы были
употребительны в разговорной речи и в целом мало табуированы, свидетель-
ствует, например, известная подпись к инициалу, изображающему двух браня-
щихся рыбаков, из Фроловской псалтири (первая половина XIV в.): “Потяни,
корвин с<ы>н - Сам еси таков” (Столярова 2000: 443, № 514). “Блядин сын/
блядины дети” - одно из самых любимых просторечных ругательств протопо-
па Аввакума, если судить, в частности, по “Книге толкований и нравоучений”
(ок. 1673-1676) (РИБ 1927: 425-576). С другой стороны, в записях Адама Оле-
ария середины XVII в. “блядин сын” и “сукин сын” фигурируют именно как
запретная грубая брань наряду с формулой matrem tuam futuo (futui) (см. ниже).
Стоит, по-видимому, задуматься, имел ли Фотий в виду только одно выражение,
или все экспрессивные фразеологизмы, связанные с оскорблением матери адре-
сата. Так или иначе, содержание “Поучения” вполне позволяет предположить,
что в середине XVI в. представления о “матерной лае” были связаны не столько
с лексическими табу в целом, сколько с семантикой конкретных ругательств с
упоминанием родителей. Материалы покаянных книг XIV-XVI вв. также не
дают оснований говорить о матерной брани как устойчивой группе табуиро-
ванных лексем. Обычно мы опять-таки встречаем здесь запрет на ссоры и про-
клятия в отношении родителей. «“Отцю или матери лаял, или клял, или бил?”
- пишет М.В. Корогодина, - статья, которая встречается почти во всех исповед-
ных вопросниках, адресованных мужчинам, и во многих текстах для женщин»
(Корогодина 2006: 251). Вместе с тем упоминания о “матерной лае” как особом
виде брани попадаются в русских пенитенциалиях гораздо реже и лишь с сере-
дины XVI в. (“отца и матерь лаивал еси или бивал, или ближнему роду своему
до матерна лаял еси” - в требнике середины XVI в.; “отца и матерь не лаяла
ли, братью и сестр и всякого человека на лаивала ли по-жидовъски матерны” -
в требнике последней четверти XVI в. [Корогодина 2006: 430, 473]). Особые во-
просы “или лаял еси кого матерны”/“или лаяла еси кого матерны и всячески не-
подобно” появляются лишь в XVII в. (печатный требник 1623 г.) (Там же: 441,
477). С другой стороны, в покаянных книгах обнаруживаются и иные формы
для обозначения непристойной или табуированной лексики («“рекше соромно
слово кому-любо” - в первой половине XIV в.; “или жидовином кому прорекл
или ересником” - в последней четверти XVI в.; “в брани кого соромотным сло-
вом укорила ли” - в первой трети XVII в.» [Там же: 409, 437, 484]).
Можно полагать, таким образом, что устойчивые словосочетания “лаяться
матерны” и “матерная лая” появляются в русском языке лишь в середине XVI в.
и указывают на инвективные формулы, оскорбляющие чужих или собственных
родителей, - в этом и видится особая греховность такой брани. Применительно
к истории законодательства Московского государства, насколько мне известно,
впервые выражение “матерны лаяться” специально упоминается среди порица-
емых и запретных обычаев в указе Ивана Грозного (1552), где речь идет о пьян-
стве и бесчинствах священников и иноков, а также нормах поведения, предпи-
сываемых всем православным:
26
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Велети по торгам кликати, чтобы все православнии христиане, от мала и до велика, име-
нем Божиим во лжу не клялись, и накриве креста не целовали, и иными неподобными
клятвами не клялись, и матерны бы не лаялись, и отцем и матерью скверными речми
друг друга не упрекали, и всякими б неподобными речми скверными друг друга не уко-
ряли, и бород бы не брили и не обсекали, и усов бы не подстригали, и к волхвом бы и
к чародеем и к звездочотцом волхвовати не ходили, и у поль бы чародеи не были (АИ
1841: 252, № 154/II).
Здесь, по-видимому, “матерная лая” понимается приблизительно так же, как и
у Фотия Волоколамского: считается разновидностью (хотя и особо выделенной)
“скверных речей” и порицается наряду с некоторыми другими формами повсед-
невного поведения - ложными крестоцелованием и клятвой, обращением к маги-
ческим и мантическим специалистам, а также бритьем и стрижкой бороды и усов.
Эта тенденция получила продолжение и развитие в русской религиозной
и правовой культуре XVII в. Судя по всему, впервые матерная брань в каче-
стве особого греха, “оскверняющего душу”, фигурирует в “памяти” патриарха
Иоасафа
(1636), основанной на челобитной нижегородских священников
во главе с Иваном Нероновым “о мятежи церковнем и о лжи християнства”
(ААЭ 1836: 401-405, № 264); Рождественский 1902; Kefeli-Clay 1990; Лавров,
Морохин 2021: 68-72, 123-124). В обоих текстах, как известно, специально по-
рицаются литургические нарушения, упущения и нестроения, непристойное
поведение священников и прихожан в церкви, святочные ряжения, игры и обхо-
ды домов, народные празднования Вознесения, Семика, Троицы и Иванова дня,
употребление в пищу удавленной птицы и зайцев, кулачные бои, а также обхо-
ды скоморохов и качели на пасхальной неделе. Про ругательства протопопы пи-
сали: “Да еще, гсдрь, друг другу лаются позорную лаею, отца и мтре блудным
позором, в род и в горло, безстудною самою позорною нечистотою языки своя
и дши оскверняют” (Рождественский 1902: 30). В “памяти” эта формулировка
повторялась почти дословно: “Такожде бо и друг друга позорною и безстудною
бранию, матерны и подобных сих словес отца и матери скверными срамными
словесы поношающе, отнюд бы не бранилися, такими словесы языка и душ
своих не сквернили” (ААЭ 1836: 404).
Порицание матерной брани мы находим также в царских указах 1648-1649 гг.,
направленных против народных обычаев и, как полагают А.С. Лавров и А.В. Мо-
рохин, оказавшихся своего рода “побочным продуктом” работы над Соборным
уложением (Лавров, Морохин 2021: 125-128). Тут, впрочем, сквернословие упо-
минается довольно конспективно. В “первом” или “большом” указе от 5 декабря
1648 г. (Иванов 1850: 296-299; Харузин 1897: 147-149; АИ 1842: 124-126, № 35)
говорится лишь о “бесовских песнях” и “срамных словах” на свадьбах. В царской
грамоте в Шую от 22 декабря о матерных ругательствах сообщается более четко:
Да в Москве-ж чинится безчинство: многие люди поют бесовския, сквернословныя пес-
ни, и против Воскресных дней в субботу ввечеру, и в Воскресные дни, и в Господские и
Богородичные праздники топят бани и платья моют; и многие-ж люди бранятся меж себя
матерны и всякою неподобною лаею, и жены и девицы бранят позорными словесы. <…>
А которые люди ныне и впредь учнут коледу и плуги и усени и петь скверныя песни, или
кто учнет кого бранить матерны и всякою лаею, - и тем людям за такия супротивныя Хри-
стианскому закону за неистовства, быти от нас в великой опале и в жестоком наказанье
(Белкин 1975: 177).
В неопубликованном указе, выпущенном до 22 января 1649 г. в ответ на
челобитную холмогорцев, говорится, что
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
27
в трапезах приходских церквей живут нищие и другие лица, включая женщин и детей,
которые там часто ночуют и готовят мясные и рыбные блюда. Эти постояльцы выходят
по ночам, они гадят неподалеку от церкви. Дети “бьются в кулачки и ругаются матерно”.
Но в довершение ко всему они еще рассказывают “бесовские сказки, небылицы” после
литургии и до вечерни, а также после вечерни (Лавров, Морохин 2021: 127-128).
Наконец, еще один царский указ, написанный в 1652 г. на основании
челобитной протопопа Даниила из Темникова, содержит следующую форму-
лировку: “И матерны б никакою скверною бранью православные христиане не
бранились и от всяких иных козней удалялись, и детям и работником своим, и
на свадьбах бы песней бесовских не пели, и никаких кощун и срамных слов не
говорили” (Уставная грамота 1886: 73).
Напомню, что упомянутые указы Алексея Михайловича представляли собой
развернутую программу борьбы с массовой праздничной культурой, магически-
ми и мантическими практиками, а также разными “бесчинными” формами по-
вседневного поведения. “Большой” указ запрещал представления скоморохов,
кулачные бои, устройство качелей на праздники, различные формы “чародей-
ства и волхования”, “вождение” медведей и дрессированных собак, игру в шах-
маты, карты, зернь и бабки, святочные игры и колядование, “бесовские песни”
на свадьбах, рассказывание “небылных сказок” и загадывание загадок. “Домры,
и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гуденные бесовские сосуды” пред-
писывалось изымать и уничтожать. Нарушителям указа грозило битье батогами
и ссылка в “украйные городы”. Грамота в Шую запрещала, кроме того, топить
бани по субботам и в канун праздников, стирку в воскресные и праздничные дни
и бритье бород. Грамота в Темников упоминала еще больше запретных обычаев:
порицалась, например, чехарда, а также катание на санях и лыжах, завивание
берез в Семик, “насвистывание” ветра во время молотьбы и т.п.
По распространенному среди исследователей мнению, кампания против
народных обычаев в середине XVII в. была частью реформаторского проек-
та кружка “боголюбцев”. Вместе с тем, как справедливо заметил П. Берк, ее
можно обсуждать и в более широком контексте реформационной и контрре-
формационной “борьбы с народной культурой” в XVI-XVII вв. (Burke 1978:
207-243). Позицию, по-своему близкую этой, занял и В.М. Живов, считавший
деятельность “ревнителей благочестия” и поддержавшего их царя Алексея Ми-
хайловича “первым этапом дисциплинарной революции в России”, т.е. попыт-
кой административного “реформирования религиозной жизни русского населе-
ния” (Живов 2012: 351-360). Стоит, впрочем, добавить, что нечто похожее мы
наблюдаем и в середине XVI в. при митрополите Макарии и Иване Грозном,
когда и начинается борьба с “матерным лаянием”. Так или иначе, речь, вероят-
но, действительно должна идти о продолжавшихся более столетия попытках ре-
лигиозного и социального дисциплинирования, увенчавшихся в конечном счете
петровской церковной реформой.
Матерная брань в эсхатологических видениях
Можно предположить, что именно попытки регулировать повседневную
культуру при Алексее Михайловиче сделали запрет на матерную брань одной
из значимых тем крестьянских эсхатологических видений на Русском Севере и
в Сибири во второй половине XVII-XVIII вв. Еще А.С. Орлов, впрочем, отме-
тил, что существует и более ранняя запись видений о матерной брани, вклю-
ченная в 159 главу “Русского Хронографа” редакции 1617 г. (Орлов 1913: 53;
см. также: Попов 1869а: 174-175; Щапов 1906: 601; Летописец 1892: 455-456;
Орлов 1906: 34):
28
Этнографическое обозрение № 2, 2023
В лето 7008 ходила в Ростове девица из Заозерья именем Гликерия, а сказывала, что
явился ей Илия Пророк, а святая мученица Парасковея, нарицаемая Пятница, и потом
на память Рожества Иванна Предтечи восхищена бысть невидимою силою и мнящи ей
быти на небеси, и видела Пречистую Богородицу, и по двою дню паки явилася и говори-
ла: чтобы люди молилися Богу, а матерны бы не бранилися, и страшными бы клятвами
не клялися, и всякого зла удалялися, Божественныя бо церкви украшали и милостыню
творили невозбранно. Того же лета в заостровии поп Кирилловский именем Александр
сказывал, что явилась ему Пречистая Богородица и повелела ему говорити людем, чтобы
по церквам и по домам молебная совершали, а матерны бо не бранилися, и жидови-
ном между себе християне не называлися и удалялися бы от всякого зла (Попов 1869а:
174-175).
Запись эта следует в “Хронографе” почти сразу же за статьей “О новгород-
ских еретиках, откуда явишася и в кое время”, посвященной жидовствующим
и представляющей собой сокращенное заимствование из вступительной части
“Просветителя” Иосифа Волоцкого (Попов 1869б: 117)5. Можно предположить,
таким образом, что составитель “Хронографа” 1617 г. видел какую-то связь
между “новгородской ересью” и явлениями святых и Богородицы в Ростове и
Кириллове.
Насколько мне известно, история о видениях Гликерии и Александра не
фигурирует в русских летописях XVI в., поэтому и ее источник, и реальную
датировку определить довольно сложно: очевидно лишь, что известия, следую-
щие за статьей о еретиках, относятся к истории Ростовской епархии и что они
были внесены в “Хронограф” в начале XVII в. Если автор редакции 1617 г. не
ошибался с датой и дело действительно происходило на рубеже XV и XVI вв.,
можно предположить, что эти видения были каким-то образом связаны с эсха-
тологическим кризисом 7000 (1492) (обзор и анализ материалов по этой теме
см.: Алексеев 2002). С другой стороны, если допустить, что он в действительно-
сти не знал, когда именно случились эти события, существует соблазн связать
их с вышеупомянутым указом Ивана Грозного, где речь тоже идет и о матерной
брани, и о “неподобных” клятвах.
Обращает на себя внимание и одновременное упоминание пророка Илии и
св. Параскевы Пятницы, что, по-видимому, указывает на одну - “ильинскую” -
из пятниц апокрифического сказания (обзор редакций и исследовательской ли-
тературы см.: Толстая 2015: 200-214). В этом же контексте необходимо вспом-
нить и сообщение Стоглава о “лживых пророках”:
Да по погостом и по селом ходят лживые пророки - мужики и жонки, и
девки, и старыя бабы, наги и босы, и, волосы отрастив и распустя, трясут-
ся и убиваются и сказывают, что им являются святыя Пятница и Настасия
и велят им заповедати християном каноны завечати. Они же заповедают
в среду и в пяток ручнаго дела не делати, и женам не прясти, и платия не
мыти, и камения не разжигати, а иные заповедывают богомерзкие дела
творити кроме божественных писаний… (Стоглав 1863: 138).
Выражение про каноны, на мой взгляд, здесь стоит понимать не как при-
зыв к обетным приношениям, а как запрет на те или иные виды работ в канун
праздников. Что касается запретов на женские/домашние работы и топку бань
по средам и пятницам, то они связаны с представлениями о персонифицирован-
ных днях недели и своего рода “календарных демонах”, широко распространен-
ными в средневековом христианстве, в том числе - у балканских и славянских
народов (Свешникова, Цивьян 1973; Mesnil, Popova 1993; Drettas 1995; Ђурић
2020). Вполне возможно, что видения Гликерии и Александра следует анализи-
ровать именно в связи с этой визионерской традицией XVI в.
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
29
Однако взрывообразное распространение видений о матерной брани, свиде-
тельствующее о своего рода моральной панике, пришлось именно на годы борь-
бы с народными обычаями при первых Романовых. Самый известный случай
такого рода произошел в 1641 г. и описан в “Сказании о чудесах от иконы Спаса
Нерукотворного из села Красноборска на Северной Двине” (Никольский 1912;
Орлов 1913; Буланин, Романова 2004; Власов 2011: 133-165). В начале 1620-х
годов местный крестьянин нашел на пустынном речном берегу чудотворный
образ Спаса. В 1628 г. здесь был построен храм, куда съезжались богомольцы,
а 13 лет спустя начались чудеса, записи о которых составили особую летопись.
Девятого июня 1641 г. красноборский Нерукотворный Образ явился просвирни-
це Варваре и повелел, “чтобы съезжалися священицы и дияконы со образы на
Красной Бор ко всемилостивому Спасу и веру бы держали велию и молилися
Господу Богу и все бы православные християне съезжалися и молилися Госпо-
ду Богу и грехов своих почясту каелись”.
Через месяц, 9 июля, в храме случилось другое чудо: крестьянка Акилина
Никитична Башмакова, шесть лет страдавшая слепотой, исцелилась от своей
“очныя болезни”. Когда она вышла после молебна из церкви и осенила себя
крестным знамением, “рука у нея десная к челу прилпе… И некоя Божия сила
поверже ея о землю и бысть аки мертва на долг час, и жены подвигнути не
могли”. После этого Акилина сказала, что у нее в головах, между церковными
дверями стоят три иконы - две Богородицы из соседних церквей и Краснобор-
ский Спас, а еще “жена светлообразная лицем, покрывшыся убрусом”. Жена
приказала визионерке призвать трех названных по именам крестьянок, те под-
няли Акилину “и Божыим промыслом и изволением руку <у> нея… от головы
отвели, и умом стала цела, якоже и первие”. Потом визионерка рассказала, что
“светлообразная жена” велела ей “сказывати во вьсем мире”, чтобы священники
и миряне приходили на Красный Бор ко всемилостивому Спасу “и молились бы
и милости просили у него, а хмельные бы люди отнюдь в церковь не ходи(ли)
и табака бы отнюдь не пили и матерно бы отнюдь не бранились и жыли быи
по святых отец правилу и друг на друга гнева не имили никотораго”. Если же
православные не исполнят этих заповедей, “будет на них… мраз люты и снег и
лед и камение горящее… и будет молние огненое и лица своего воображеного
и храмов не пощажу и их каминием побью и по иным местом хлебы и трава
озябьнет и скоти ваши с голоду погибнут”. Кроме того, Акилина слышала голос
и от иконы Красноборского Спаса: “Украсил я горы и холми и всю <в>селеную,
а от хмелных людей, и от табака, и от всякия скверны лице cвое отвращаю и
зреcти на них не могу” (Никольский 1912: 11-12).
Летом 1641 г. здесь совершилось еще несколько исцелений, преимуще-
ственно от глазных болезней и “расслабления”. В праздник Успения в с. Юрьев
Наволок случилось новое чудо. Местную крестьянку Феклу, у которой была пара-
лизована левая рука, тоже ударила о землю “некая Божыя сила”, после чего жен-
щина долго лежала без сознания, а очнувшись, рассказала, что к ней пришли Крас-
ноборский Спас и Тихвинская Богородица из церкви Пачеозера и “велели литии
молебныи звоном на Красном Бору всемилостивому Спасу да в Юрьеве Наволоке
Георгию страстотерпцу”. На следующий день те же иконы явились ей за заутреней
в Красноборском храме и приказали людям, приходящим на богослужение, непре-
станно молиться со слезами и не разговаривать друг с другом, отказаться от табака
и матерной брани и не ходить в церковь в хмельном виде. Здесь в текст видения
включена цитата из анонимного “Слова о матерной брани”, к которому я обра-
щусь ниже: “А в которое время хто матерьно избранит, и в то время небо и земля
потрясеться и Богородица, стоя, вострепещет, а о токовом словеси, а уста его того
днии кровью воскипают. И теми устами не подобает таины Господнии вкушати,
30
Этнографическое обозрение № 2, 2023
ни креста целовати”. Кроме того, видение запрещало работать в праздничные дни
и сопровождалось такими же эсхатологическими угрозами, что и у Акилины Баш-
маковой (Никольский 1912: 14-17).
Три года спустя похожие чудеса произошли в соседнем Сольвычегодске
(Романова 2004; Власов 2011: 166-205). Девятилетнему мальчику Михаилу
явилась икона Одигитрии, хранившаяся в одной из городских церквей. Вече-
ром накануне Отдания Пасхи он упал замертво и пролежал так долгое время.
Очнувшись, Михаил не мог говорить и лишь показывал пальцем в сторону хра-
ма Успения Богородицы, а когда его привели туда, припал со слезами к обра-
зу Одигитрии Цесарской и попросил отслужить молебен. По прошествии трех
дней отрок рассказал, что ему явилась Богородица и приказала, чтобы
отнюдь не быти в православнои и христианскои вере празднословию, сиречь неподоб-
ныя брани, еже укорения матерем срамнаго, понеже укоряет и свою ему рождшую ма-
терь сим сквернословием. <…> И за сие великое сквернословие и брань неподобную и
досаждения Господь наш Иисус Христос прогневаяся, хощет послати за презелная безза-
кония наша с небеси камение горящие и тучи огненныя на наш град и на всю вселенную
и страшным трусом потрясет. И по сих же всех хощет нас конечней погибели предати,
якоже древле возда Содому и Гомору (Власов 2011: 176-178).
Видение повторялось несколько раз, но люди не верили Михаилу и, насме-
хаясь, называли его “новым пророком”. Тогда сольвычегодцам было дано зна-
мение - “мразы, и снегии, и великия студени месяца июния с 8 числа по 11 день,
и дожди невеликия часты”, но и оно их не вразумило. Наконец, 11 июля внезап-
но наступили сильнейшие заморозки, которые могли погубить посевы. После
этого горожане, опасаясь голода, поверили мальчику. Икона Одигитрии вновь
явилась Михаилу, потребовала, чтобы он рассказал о своих видениях “начал-
нику града сего” князю М.А. Кольцову-Мосальскому, и заповедала установить
себе праздник 12 июля. Князь послушался, приказал “кликати… по торгам и по
улицам” о явлении иконы, а также совершить ей соборный молебен. В результа-
те заморозки прекратились. Через некоторое время выяснилось, что Одигитрия
обладает даром исцеления - она избавила от слепоты еще одного сольвычегод-
ского мальчика по имени Василий, а затем вылечила от “огницы” отрока Стахия
из соседней деревни. Хотя записи об этих чудесах указывают на своего рода
“детскую специализацию” иконы, она помогала и взрослым людям.
Запрет матерной брани играет значимую роль и в “Повести о явлении чудо-
творного образа Тихвинской Богородицы в Устюжском уезде”, известной всего в
одном списке6. Описанные в ней события происходили в 1663-1664 гг. в Пермо-
горской волости - чуть ниже Красноборска по течению Двины. Крестьянину Ива-
ну Трифонову сыну Минаханову в ночь на Пасху приснились Богородица и “не-
ведомый человек” в багряно-черных ризах, оказавшийся Кириллом Белозерским.
И Богородица рече: “Иванне, иде ко церкви Вознесения Христова, сея же в Пермогор-
ской волосте, извести мое чюдное явление тоя церкви попу Козме со всем крилосом и
всем крестьянам со всем народом, чтоб есте матерно не бранились, друг друга любили, и
хмельново пития не упивались, и табака чтобы не курили. И подаст вам Господь на земле
изобилно и великаго хлеба много. Аще ли не послушают тебе, то ся страх что будет имея
(Власов 2011: 240-242).
Кроме того, Богородица приказала Ивану искать “на горе подле Двину реку
на ручье на Волчьем на нижной стороне” явленный образ Знамения, а также за-
казать иконописцу “на цке святый образ Явление Тихвинская Богородица, а на
другой цке преподобнаго Кирила Белозерскаго” (Власов 2011: 242). Иван рас-
сказал о явлении приходскому священнику и отправился с другим крестьянином
на Волчий ручей. Правда, иконы Знамения они там не нашли и сочли видение
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
31
ложным. Однако в ночь на Петров день Ивану опять приснилась Богородица и
снова приказала искать явленный образ. На сей раз поиски увенчались успехом.
И после того многия крестьяне прохожие, всех чинов люди на тое святое место и к но-
вопроявленной Богородице с священники приходили и многие молебны по обещанию
служат и на священника деньги в казну кладут. И с того время от того святаго образа
Пречистыя Богородицы Честнаго и Славнаго Ея Знамения многия исцеления явления
православным крестьяном, многия недуги одержимым (Власов 2011: 244-246).
Из позднейших документов явствует, что Иван выполнил и другое повеле-
ние, поскольку иконы Тихвинской Богоматери и Кирилла Белозерского дей-
ствительно хранились в часовне на Волчьем ручье. Сам визионер постригся в
монахи, а затем принял схиму с именем Иаков (Зенкова, Копытков 2020).
По-своему примечательным в этнографическом отношении представля-
ется опубликованное Д. Уо по списку 1704 г. “Сказание о чудотворной иконе
Успения Богородицы в Обвинском Верх-Язвенском Успенском монастыре” (Уо
2003: 83-84, 296-298). Составлено оно, если верить тексту, было в 1692 г. Дело
происходило в Соликамском уезде за семь лет до этого. В мае местный житель
Родион Иванов сын Титков отправился в лес и видел там “по дороге идущих людей
ему встречю зраком страшным, ростом велики, долговолосы два человека, один
черн а другой чермен, а между ними идет видом страшен ни весть зверь или бык
збура черн”. На вопросы о том, кто они, страшные люди сначала молчали, а потом
свирепо ответили: “Что де тебе надобно?”. Пройдя еще немного, испуганный Роди-
он встретил еще одного человека - «образом светла, а платье на нем бело и длинно,
а ноги его малая ча[с]ть видети. И он Родион того человека устрашился наипаче и
помнил себе во уме: “Что де они таким видением за люди ходят?”» (Уо 2003: 296).
Однако человек в светлых ризах успокоил Родиона и растолковал ему преж-
нее видение:
Черноволосой де человек и то де черная немощь, а чермной де человек, то де огненная
немощь, а между ими что шел звериным образом и то де будет на скот падеж. А то де
Бог попустил на вас свой праведной гнев за вашу матерную лаю и за вашу празднишную
работу и за братонелюбие и за табак проклятой. И по[й]ди де ты Родион и скажи в мире,
чтоб отнюдь матерно не бранилися и табаку б у себя в домех не держали и друг друга
любили и по воскресным дням и в господские праздники не робили. А будет де впред
того не отстанут, и на людей де будет мор и на скот падеж, а после де того будет на пять
лет засуха и хлебной недород и по земли будет глад велик (Там же: 296).
Потом он приказал Родиону взять в приходской церкви “межу врат образ
Успения Пресвятыя Богородицы” и отнести вместе с двумя церковными колоко-
лами на “гарь над лугами” (т.е. поле на месте выгоревшего леса) близ р. Язвы.
Там надлежало поставить крест, затем часовню, а впоследствии “завести мона-
стырь”. К новой святыне следовало три года ходить крестным ходом на Возне-
сение, Успение и праздник Спаса Нерукотворного.
Затем человек объяснил, что он и есть “Успение Пресвятыя Богородицы,
что де образ мой стоит в церькви у Рожества Богородицы межу врат”, и после
этого исчез. Родион, впрочем, отнесся к словам человека в светлых ризах не
вполне внимательно и сразу же получил за это наказание. Пройдя немного, он
споткнулся, упал на землю
и в то время избранился матерны. И в то ж время схватился и выговорил: “Что де я согре-
шил окаянной, избранился матерны”. И в то же де время явися шум велик и вихор с ту ж
сторону, где ему явился Пресвятая Богородица, и как де будет вихор над него Родиона, и за
матерную де лаю подняло де его высоко и ударило о землю. И от того де он Родион стал во
иступлении ума своего, и вне ума своего лежал на том месте двои сутки (Там же: 296-297).
32
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Очнувшись, он стал рассказывать о своем видении местному причту и при-
хожанам, и вскоре на указанном месте был поставлен крест. Выяснилось, кро-
ме того, что в августе “Успение Пресвятыя Богородицы” явилось еще одному
местному жителю Викуле Ельфимову и заповедовало,
чтобы де матерною бранью не бранилися и проклятого табаку не пили и хмелного канону
к церькви и к часовни не приносили. И в том же месте велела церьковь строить Успение
Пресвятыя Богородицы и монастырь заводить в том же месте по видению того ж Родиона.
А будет де матерные лай впред не отстанут и учнут пить проклятое питье табак и безмер-
ное пиянство и меж себя будет братонелюбие, и только де жития вашего будет пять лет,
а после те ж пяти лет будет и[з] небес на землю камение горящее, и после де того будет
потопа, а после потопы востанут ветри и развеют де всю землю (Там же: 296-297).
На следующий год на Язве был основан Успенский монастырь (Грамоты
1892: 9-11), и вскоре в нем начались исцеления от чудотворного образа. Записи
об этих чудесных событиях в целом вполне типичны для истории подобных
святынь: паломники и насельники новой обители избавлялись здесь от “рассла-
бления”, “очной болезни”, безумия и т.п. Присутствует среди них и еще одно
наказание от иконы - на сей раз за употребление табака:
Некто имянем плотник Федор с Обвы и в том Язвенском Успенском монастыре строил
часовню и выговорил, чтоб де я ныне испил табаку, и в то же время топором ударил и
щепою вышиб у себе глаз. И после того обещался, что ему табаку впред не тянуть и
хмельного питья не пить и при смерти в том же монастыре постритчися, и помолился
Успению Пресвятыя Богородицы и бысть от той очной болезни здрав (Уо 2003: 298).
Помимо упомянутых видений, запреты на матерную брань присутствуют
и в составе сказаний середины XVII в. о некоторых других чтимых святынях
и святых того же региона: “Житии Сергия Малопинежского” (“И с суботы на
воскресение в банех бы не мылися, и в воскресение Христово не робили, праз-
новали бы духовно, а не телесно. И другъ друга бы любили, миръ и любовъ
межъ себя имели, и матерно не лаялись” [Савельева 2010: 336, 358]), ранней
редакции “Сказания о чудотворной иконе Николы Великорецкого” (“…еже бы
православнии христиане не бранилися матерны и всякою неподобною бранию,
и на питие бы душевредное не уклонялися, но приходили бы к Божиим святым
церквам почасту и слушали святаго писания…” [Романова 2016: 361]), “Сказа-
нии о иконе Богоматери Тихвинской в Чердынском уезде” (“А иных православ-
наго христианства народу падет, которые меж собою лаются, аки пси, матерною
бранью и проклятую траву носом тянут ради мерзскаго пиянства, а иных много
в плен ведоша” [Романова 2016: 358]).
Наконец, эта же тема встречается и в визионерских нарративах второй по-
ловины XVII в. из Западной Сибири. В 1661 г. дьячку Знаменского монастыря в
Тобольске Иоанникию явился во сне человек в святительском облачении, кото-
рого визионер счел митрополитом Филиппом, и сказал, что Бог, разгневавшись
на горожан, наслал на них “великия мухи и повеле скот… изморити”, а всех
людей “живых поясти”:
А вы всемогущему Богу и Пречистей Богородицы не воздаете псалмов и песней ду-
ховных, но матерною бранию лающеся, яко псы. И тоя убо ради скверныя брани сама
Владычица наша трепещет непрестанно день и нощь со всеми небесными силами. Не
дадите нам покоя, окаяннии людие! Вместо же фимьяна наполняете воздух проклятым
шаровным (т.е. табачным. - А.П.) дымом, смрадно убо зловоние и гнусно не токмо Богу
и святым его, но и человеком (Ромодановская 1989: 51).
Святитель приказал за три дня выстроить в монастыре деревянный храм,
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
33
перенести туда стоящую в церковном чулане икону Казанской Богоматери и
совершать ей празднование трижды в год.
В том же году крестьянской вдове Авдотье Бакшеевой был голос от другого
чтимого в епархии образа Богоматери - Абалацкого Знамения. Икона наказывала,
чтоб православные християне молились Господу Богу и Пречистой Богородицы. И при-
шли бы в покаяние, и от всех злых дел и неправды отстали. И матерны и всякою сквер-
ною бранию меж себя не бранились, и друг з другом в любви пребывали. А будет де
православные християне от матерные брани и от всех злых дел не отстанут, и на них де
пошлет Господь Бог глад и мор, и пламя огненное (Ромодановская 2002: 324).
На следующий год Богородица обратилась к Авдотье с порицанием реформ
патриарха Никона:
И чтоб де православные християне то латынское пение оставили и прибегнули б к церк-
вам Божиим с чистыми сердцы и с покаянием, и пели б по-прежнему. И им, православ-
ным християном, будет милость Божия. А будет де православные християне латынского
пения не отставят и всяких злых дел и неправды не отстанут, и на них де Господь Бог
пошлет мор и глад, и огненное запаление (Там же: 325).
Сочетание антиниконовских идей с порицанием матерной брани встречаем
и в видении тюменского ямщика Петра Денисова Шадры, тоже случившемся в
1662 г. (Ромодановская 2002: 327-329).
Особое место среди урало-сибирских видений второй половины XVII в. с
запретом матерной брани занимает корпус текстов, происходящих из Верхо-
турского уезда и относящихся к 1687-1691 гг. (Ромодановская 2002: 292-293;
Шашков 2013: 433, 490-491; Борисов 2009, 2014). Высказывалось предположение,
что эти видения были инсценированы слободскими приказчиками, заинтересован-
ными в сборе штрафов за сквернословие, однако, судя по всему, оно не находит
подтверждения, и речь все же идет о спонтанной “визионерской эпидемии”, хотя,
вероятно, и спровоцированной “памятью” воеводы Г.Ф. Нарышкина, где предпи-
сывалось наказывать за матерную брань и употребление табака (Борисов 2014).
В ответ на это письмо в июне 1687 г. в Верхотурье поступили отписки о видени-
ях из Тагильской и Ирбитской слобод. Сообщалось, что в ночь на 20 мая тагильской
крестьянской девочке Марине Васильевой явилась во сне женщина в богато укра-
шенной одежде, со светлым лицом и золотым венцом на голове, пришедшая, по ее
словам, “из деревни из Горскины из часовни”. Она приказала Марине поведать
во всех градех и селех, чтоб матерною бранью не бранились и табаку не пили и молилися
бы ей по три дни с постом на всяк день и пели б по однежды. <…> А буде матерные бра-
ни бранитца и табаку пить не престанут, и за то их прегрешение будут мрази великия и
сушь и ветры. И что посеяной хлеб из земли ветрами весь будет выдут и рождение хлебу
ничего не будет (Борисов 2014: 124).
Через шесть дней похожий случай произошел в Ирбитской слободе с доче-
рью кузнеца Дарьей Ивановой Затыкиной. Была сильная гроза, и девочка стала
молиться, но тут дверь в избу отворилась и вошла “девица, сияющи светлыми
лучами в белой одежде”. Дарья испугалась и хотела спрятаться в голбце, но
девица схватила ее за косу и сказала:
Явление мое - Одегитрие Пресвятая Богородица, что в Ырбитцкой слободе в церкви над
престолом. <…> И скажи де всем ирбитцким жителем, чтоб де матерною бранью нихто
не бранились и чтоб де отцы и матери детей своих от матерной брани унимали. А буде не
престанут от матерной брани, и на тех де людей будет с небеси туча огненная (Борисов
2014: 126).
34
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Наконец, почти в то же самое время 16-летнему тагильскому крестьяни-
ну Самсону Климентьеву Шерстобитову явился его покойный отец и сказал:
“Стань де ты обумися и матерно не бранись и шару де не пей и скажи де в мир,
чтоб матерно не бранились”. Следом показался образ отцовского небесного по-
кровителя - Климента папы Римского - “и пошел… на погост к В(в)едению
Пресвятые Богородицы” (Борисов 2014: 129).
Вскоре после получения этих известий воевода Г.Ф. Нарышкин отправил по
слободам новое предписание, согласно которому за матерную брань следовало
бить батогами и собирать штрафы по рублю с человека, а употребляющих та-
бак присылать в Верхотурье. Однако в 1689 г. эти наказания за сквернословие
были отменены, поскольку выяснилось, что приказчики присваивают штраф-
ные деньги себе (Борисов 2014: 108, 131). Видения между тем продолжались.
В мае 1688 г. 12-летний крестьянский сын из Белослудской слободы Павел
Игнатьев Порадеев видел во сне “девицу во светлой белой одежде”, потребо-
вавшую, “чтобы перестали матерною бранью бранитца” и тоже угрожавшую
сквернословам гневом Божиим, огненной тучей и камнями, падающими с неба
(Борисов 2014: 132-133). Через три года Богородица явилась 12-летней кре-
стьянке Марфе из Краснопольской слободы, сказала, что идет “с Абалаку два
годы в Подволошную деревню вверх по Нейве реке”, и повторила те же запреты
и угрозы (Борисов 2014: 134-135).
Рассказы о видениях такого рода продолжали распространяться в разных
регионах Сибири на протяжении XVIII в. (Ромодановская 2002: 293-294; Шаш-
ков 2013: 434-439), несмотря даже на петровский указ 1722 г., по которому раз-
глашение ложных чудес наказывалось вечной ссылкой на галеры с вырезанием
ноздрей. Запреты на матерную брань здесь чаще всего соседствуют с порица-
нием “немецкого платья”.
Я столь подробно остановился на этих материалах, поскольку, как мне ка-
жется, они позволяют понять, какую роль играли паники, связанные с матер-
ной бранью, в массовой религиозной культуре XVII в. Отмечу, во-первых, что в
географическом отношении ареал обсуждаемых видений ограничен несколь-
кими соседствующими регионами: Средним Подвиньем и Прикамьем (Устюж-
ский и Соликамский уезды), а также Юго-Восточным Приуральем. Более того,
мы можем говорить о своего рода “эпидемиях” однотипных видений, спровоци-
рованных, по всей вероятности, внешними факторами, т.е. распространением
официальных запретов на матерную брань и другие порицаемые формы пове-
дения. Показательно, что чаще всего сквернословие осуждается наряду с упо-
треблением табака, запрещенного светской властью еще при Михаиле Федоро-
виче, а затем и Соборным уложением 1649 г. (Romaniello 2009; Chrissidis 2009).
История этих запретов по-своему примечательна.
Адам Олеарий пишет про московитов:
Они также являются большими любителями табаку, и некоторое время тому назад вся-
кий носил его при себе: бедный простолюдин столь же охотно отдавал свою копейку за
табак, как и за хлеб. Когда, однако, увидели, что отсюда для людей не только не получа-
лось никакой пользы, но, напротив, проистекал вред (на употребление табаку не только
у простонародья, но и у слуг и рабов уходило много времени, нужного для работы; к
тому же, при невнимательном отношении к огню и искрам, многие дома сгорали, а при
богослужении в церквах перед иконами, которые должно было чтить лишь ладаном и
благовонными веществами, поднимался дурной запах), то, по предложению патриарха,
великий князь в 1634 г., наряду с частными корчмами для продажи водки и пива, совер-
шенно запретил и торговлю табаком и употребление его (Олеарий 2003: 180).
Слова Олеария повторяет швейцарец Гай (Гвидо) Мьеж, путешествовавший
по России в 1663 г.: “Вместо того, чтобы покупать хлеб, бедняки тратили все
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
35
свои деньги на табак. Кроме того (и это особенно раздражало патриарха), они
представали перед своими образами со столь дымным и пахучим дыханием, что
он, вероятно, боялся, что они отравят святых зловонием своего табака” (Miege
1669: 46). Эти сообщения корреспондируют с вышеупомянутым тобольским
видением 1661 г., где табачный дым именуется “зловонием”, “противным Богу
и святым”, и прямо противопоставляется фимиаму. Вообще говоря, частое объ-
единение запретов на матерную брань, употребление табака и пьянство в об-
суждаемых текстах примечательно еще и тем, что косвенно указывает на три
телесные характеристики икон - зрение, обоняние и слух: чудотворные образа
как бы не хотят видеть пьяных людей, нюхать табачный дым и слушать матер-
ную брань. С другой стороны, употребление табака в ту эпоху непосредственно
ассоциировалось с алкогольным опьянением, поскольку подразумевало силь-
ную интоксикацию, сопровождавшуюся соответствующими соматическими
эффектами (Levin 2009). Тот же Мьеж описывает “водяное курение” русских
следующим образом:
Взамен трубок у них есть приспособление, сделанное из коровьего рога c отверстием
посередине, куда помещают сосуд с табаком. Этот сосуд, который обычно делается из
дерева, очень широкий и столь же глубокий. Когда они наполняют его табаком, в рог
наливается вода, чтобы смягчить дым. Затем они поджигают табак при помощи головни
и вдыхают дым через рог c таким рвением, что одной трубки хватает не больше, чем на
две затяжки. Когда они выдыхают дым изо рта, поднимается такое облако, что закрывает
все лицо. Сразу же после этого они в опьянении падают на землю. Я видел, как пять
или шесть из них падали так по очереди, и они были настолько одурманены, что едва
успевали отдавать свои трубки товарищам и по половине четверти часа лежали в таком
опьянении настолько бесчувственно, как будто в падучей болезни (Miege 1669: 101-102).
Похожим образом эту практику, заимствованную, вероятно, из Средней
Азии (Шаповалов 2000), описывают в конце XVII в. и другие западные пу-
тешественники (Идес, Бранд 1967: 103, 116-117; Levin 2009: 51-52). По всей
видимости, такая форма никотиновой интоксикации могла восприниматься не
только как вид опьянения, аналогичного алкогольному, но и как вид одержимо-
сти демоническими силами, сходный по внешнему облику с “исступлением”,
которое испытывали визионеры. В рукописных повестях о табаке, созданных,
предположительно, также в середине или второй половине XVII в. и получив-
ших особое распространение в старообрядческой среде, параллели между куре-
нием и пьянством тоже встречаются достаточно часто (Бровкина 2020; Бабалык
2021). Впрочем, соответствующая рукописная традиция, “обличающая пороки
пьянства, сквернословия и табакокурения”, вообще демонстрирует стремление
к циклизации и обмену мотивами (Бабалык 2016: 302).
Во-вторых, обсуждаемые севернорусские видения представляют собой
лишь часть по-своему довольно сложных культурных процессов “производства
сакрального”, приводящих, как правило, к появлению новых святынь, а так-
же сообществ и сетей верующих и, скажем так, религиозных антрепренеров
(храмы и приходы, небольшие монастыри и т.п.). Главным действующим лицом
этой социальной драматургии обычно является конкретный чудотворный образ
Богородицы, взаимодействующий с людьми в разных медиальных режимах - от
“сонного видения” до прямого физического контакта. В этом контексте доволь-
но показательной представляется история о явлении Обвинской иконы Успения
крестьянину Родиону. Напомню, что она является визионеру в виде человека в
светлых ризах, в котором легко узнается центральная фигура соответствующей
иконографической композиции: Христос, держащий на руках душу своей мате-
ри в образе спеленутого младенца. Очевидно, однако, что в “Сказании” Родион
имеет дело не с Христом и не с Богородицей, а с особым потусторонним агентом,
36
Этнографическое обозрение № 2, 2023
репрезентирующим одновременно и персонифицированный праздник Успения,
и конкретную икону, требующую поклонения и создания нового сакрального
локуса. Онтологическая специфика крестьянского иконопочитания, вообще го-
воря, состоит в том, что чудотворные образа не только обладают особой те-
лесностью, но и оказываются специфическими метаматериальными агентами,
сочетающими в различных ритуальных и коммуникативных контекстах черты
артефакта (изображения, созданного людьми), живого существа (человека, но
в более широком понимании и животного - птицы или рыбы) и календарного
праздника. В терминах когнитивного религиоведения эта метаматериальность
может быть описана как серия минимальных контр-интуитивных эффектов, на-
ходящихся в отношениях дополнительного распределения.
Рассматриваемая социальная драматургия зачастую основана на двух лишь
отчасти связанных друг с другом сюжетных линиях. С одной стороны, икона
требует внимания, почтения и конкретных ритуальных действий: ее нужно по-
местить в определенное место либо обрести в указанном локусе; так должна
появиться новая святыня, дарующая людям исцеление от болезней и помощь в
повседневной жизни. С другой стороны, икона сообщает о грядущих или уже
случившихся бедствиях (эпидемия и эпизоотия, неурожай и т.п.), объясняя их
нарушениями поведенческих запретов (матерная брань, употребление табака,
пьянство и т.п.), и угрожает людям еще большими карами с очевидным эсха-
тологическим оттенком (мор, голод, оледенение, огненные тучи, раскаленные
камни, падающие с неба, потоп, ураганы, развеивающие землю, и пр.). Иногда
эти угрозы дополняются индивидуальным наказанием нарушителей запрета.
Таким образом, эсхатологическая моральная паника, связанная со скверносло-
вием, курением и пьянством, служит своего рода эмфатическим дополнением
или социально-психологической рамкой, сопутствующей “открытию” новой
святыни. Типологически сходные ситуации можно, как мне кажется, увидеть
в западноевропейской религиозной культуре Средневековья и раннего Нового
времени, где появлению сакральных предметов и локусов могли сопутствовать
паники, основанные на сюжетах о еврейском ритуальном убийстве и оскверне-
нии гостии (Панченко 2012: 194-195). В нашем случае важно, что исследуемые
визионерские эпидемии, несмотря на свой локальный и “низовой” характер,
были (по крайней мере, отчасти) спровоцированы внешними факторами, т.е.
борьбой светских властей и части церковной элиты с матерной бранью и запре-
тами на употребление и распространение табака. Борьба эта, в свою очередь,
была связана с проектами социального и религиозного дисциплинирования, на-
правленными на массовую культуру и повседневный обиход.
По всей видимости, именно в таком контексте появилось и анонимное “Сло-
во о матерной брани” (описание, анализ и более подробную библиографию см.:
Буланин 2004; Бабалык 2014, 2015, 2016), которое, по мнению Б.А. Успенско-
го, указывает на связь соответствующих бранных формул с аграрной магией
и культом матери-земли (Успенский 1996: 22-43). Его фрагмент цитируется в
видении Феклы из повести о чудесах Красноборского Спаса, что, впрочем, не
обязательно говорит о действительном знакомстве северодвинских визионерок
1641 г. с этим памятником: цитата могла быть добавлена и составителем пове-
сти. Так или иначе, “Слово”, судя по всему, было написано в XVII в.: его более
ранние списки неизвестны. По наблюдениям М.Г. Бабалык, уже в этом столетии
сформировались две основные редакции памятника,
сохранившиеся вплоть до XX века: редакция, в которой сообщается о связи матерной
брани с лаем пса (РГБ, собрание Большакова, № 422: “сия брань псом дана есть, а не
православным христьяном”), и редакция, где упоминание “песьей брани” отсутствует, а
акцент делается на всевозможных наказаниях за срамословие (РГБ, Вологодское собра-
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
37
ние, № 57: “и за то спущает казни, мор и кровопролитие, и в воде утопление, и в многия
беды, и напасти, и скорби”) (Бабалык 2014: 67-68).
Позднее, по-видимому, появляется третья редакция.
Все версии “Слова о матерной брани” включают три устойчивых мотива.
Во-первых, бранящийся оскорбляет трех матерей: Богородицу, родную мать
и мать-землю (“от нея же кормимся и питаемся и одеваемся… к ней же паки
во<з>вращаемся” [Родосский 1893: 425]). Во-вторых, если человек “матерны
излает, и в тот день уста его кровию запекутца, злые ради веры и нечистаго
смрада, исходящаго изо уст его, и тому человеку не подобает того дни в церковь
Божию входити, ни креста целовати ни евангелия, и причастия ему отнюд не
давати” (Там же). Наконец, в-третьих, что от каждого матерного ругательства
сотрясаются небо и земля, да и “сама Пресвятая Богородица” трепещет на сво-
ем престоле (Там же).
Хотя не все исследователи разделяют мнение о текстуальной связи “Сло-
ва о матерной брани” с упомянутым выше поучением Фотия Волоколамского
(см.: Бабалык 2014: 67), представляется очевидным, что оба памятника исполь-
зуют один и тот же риторический прием, варьируя лишь гендерную тематику:
в первом случае бранящиеся оскорбляют не только земных отцов, но и Бога, во
втором - не только матерей, но и Богородицу. Что касается образа матери-зем-
ли, который предлагается возводить к воображаемым языческим культам сла-
вян, то в нашем контексте его гораздо проще объяснить сугубо христианскими
ассоциациями и коннотациями: и в святоотеческом богословии, и в православ-
ной литургике довольно часто встречается параллелизм Богородицы и земли
(Паршин 2011: 76-79). История, космологические и метафорические контексты
этих ассоциаций заслуживают отдельного обсуждения. Важно, однако, что они
позволяют интерпретировать генезис “Слова о матерной брани” без отсылок к
дохристианской архаике, по крайней мере - применительно к культуре восточ-
ных славян.
* * *
Вернемся к вопросу о лексическом составе “матерной лаи” в понима-
нии жителей Московского государства XVI-XVII вв. Мы помним, что Фотий
Волоколамский относил к ней выражение “блядин сын”. Его современник
Сигизмунд Герберштейн упоминает другую формулу: «Обычное их руга-
тельство, как и у венгров, такое: “Пусть собака спит с твоей матерью” и т.д.»
(в латинском тексте - canis matrem tuam subagitet, в немецком издании - das
dir die hund dein Muetier unrainigen) (Герберштейн 1988: 103; Успенский 1996:
45). Это свидетельство позволило исследователям предполагать, что “субъек-
том действия в полной форме матерного ругательства оказывается пес (canis)”
(Isačenko 1964; Успенский 1996: 45) или эвфемистически обозначаемый дья-
вол (Храмов 2000). Если, однако, принимать во внимание многозначительное
et cetera Герберштейна, а также позднейшее свидетельство Олеария, в чьей фо-
нетической записи фигурируют бранные формулы Bledinsin, Suckinsin, Sabac,
butfui matir, jabona mat (Olearius 1647: 130), то ситуация выглядит несколько
иначе: “собачья тема” значима для порицаемого сквернословия, однако не доми-
нирует лексически и семантически. Как мне представляется, замечание Гербер-
штейна все же указывает не на гипотетическую “полную” или “архаическую”
форму “матерного ругательства”, но лишь на один из вариантов последнего.
Инвективы, связанные с “материнской темой”, не уникальны для славянских
культур или индоевропейских языков. Если ограничиться их современным рас-
38
Этнографическое обозрение № 2, 2023
пространением у христианских народов Европы, выясняется, что здесь более
важны культурные, а не языковые факторы: соответствующие формулы есть во
всех романских языках, у греков, у славян, у венгров, но отсутствуют или име-
ют малое распространение в германских и финских языках Северной Европы и
Скандинавии (Ljung 2011: 121-122). Причины такой дистрибуции заслуживают
отдельного анализа, однако бросается в глаза отсутствие “материнской темы”
преимущественно в протестантских странах. По-разному распространены и
ругательства, использующие табуированные обозначения половых органов и
различных форм сексуального акта, также отсутствующие в ряде германских
языков (напр., в немецком и шведском), где “предпочитаются религиозные и
скатологические термины” (Ljung 2011: 121-122).
И лексикография, и культурные функции табуированных слов и формул в
восточнославянской крестьянской культуре XVIII-XX вв. исследованы доволь-
но плохо. Можно, однако, предположить, что на “низовое” восприятие сквер-
нословия с “материнской темой” довольно значимое влияние оказало “Слово о
матерной брани” и восходящие к нему устные тексты (духовные стихи, легенды,
запреты и т.п.). Об этом, в частности, говорят полесские записи начала 1980-х
годов, опубликованные А.Л. Топорковым (Топорков 1984: 231-232). В них так-
же устойчиво встречаются мотивы оскорбления трех матерей и горящей либо
проваливающейся от брани земли, причем особенно грешным или опасным
считается женское сквернословие. Другая характерная функция табуированной
лексики в крестьянской культуре - использование брани в качестве магической
защиты от различных демонов, вредоносного колдовства, сглаза или приходя-
щих покойников. Эта практика опять-таки исследована недостаточно хорошо,
однако в таких случаях, по-видимому, были в ходу не только и не столько фор-
мулы с “материнской темой”, но и обозначения гениталий. Стоит иметь в виду,
что ритуальное обнажение, а также демонстрация гениталий и коитальных же-
стов в качестве апотропея имеет широкое распространение в культурах Европы
и Средиземноморья и выходит далеко за пределы восточнославянского ареала
(Dundes 1981; Агапкина, Топорков 2001; Левкиевская 2002: 146-148; Агапкина и
др. 2004). Показательный пример - западноевропейские паломнические релик-
вии XIV-XV вв. с изображением мужских и женских половых органов, служив-
шие, как предполагается, амулетами от сглаза и чумы (Gimbel 2012). Наконец,
еще один религиозно-мифологический контекст восприятия матерной брани в
восточнославянской аграрной культуре XIX-XX вв. - это атрибуция и “мате-
ринской формулы”, и иных табуированных лексем различным демоническим
существам. “Матюки” - типичная примета речевого поведения одержимых
“икотой” и подобными ей демонами, насылаемыми вредоносным колдуном.
При этом бранные формулы могут восприниматься как повод, позволяющий
демоническому существу проникнуть в тело человека (см., напр.: Русинова и др.
2019: 394-397). С другой стороны, способность матерно ругаться может при-
писываться домовому и многим другим демоническим существам (Успенский
1996: 19; Мороз 2021: 81), хотя и здесь, по всей видимости, речь может идти о
довольно разнообразных лексемах и формулах. Все это опять-таки говорит, как
мне кажется, не о едином дохристианском источнике крестьянских верований
и запретов, связанных с матерной бранью, а об их полигенетическом характере,
обусловленном разными факторами, культурно-историческими контекстами и
влияниями.
По всей вероятности, инвективные формулы, получившие в Московском
государстве название “матерной лаи”, имеют достаточно древнее происхожде-
ние. Однако их генезис вовсе не обязательно объяснять мифологическими или
магическими функциями и контекстами. Более вероятной кажется их связь с
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
39
системами родства, типами семьи, спецификой гендерной и возрастной стра-
тификации и сегментации сообществ. В качестве одного из возможных контек-
стов здесь стоит вспомнить практику мужских (нередко юношеских или под-
ростковых) словесных поединков, известных в разных культурах и зачастую
подразумевающих взаимные оскорбления (см, напр.: Dundes et al. 1970). Так,
например, обстоит дело с афроамериканскими dozens, из которых выросли со-
временные нам рэп-баттлы: здесь инвективные высказывания, основанные на
“материнской теме” вообще и формуле matrem tuam futuo (futui) в частности,
имеют доминирующий характер (Abrahams 1962; Lefever 1981). Впрочем, мы не
располагаем необходимыми источниками, чтобы проверить эту или подобные
гипотезы применительно к славянской архаике.
Так или иначе, можно заключить, что “изобретение” и религиозное прочте-
ние “матерной лаи” как особого и святотатственного вида сквернословия про-
исходит в Московском государстве в XVI-XVII вв. в контексте нескольких волн
борьбы с “народными обычаями”, иначе говоря, - первых попыток “дисципли-
нарной революции” в сфере религиозной культуры, повседневных обычаев и
ритуальных практик. Крестьянские визионерские эпидемии, включавшие за-
преты на матерную брань, употребление табака и алкоголя, представляли собой
своеобразные моральные паники, обусловленные дисциплинарной политикой
государства и церковных элит, но вместе с тем функционально ориентирован-
ные на создание либо развитие новых культов чудотворных икон и сакральных
локусов.
Появление в XVII в. “Слова о матерной брани” и его центральных мотивов -
оскорбления трех матерей; крови, заполняющей или “запекающей” уста браня-
щегося; сотрясения неба и земли; разнообразных “казней”, посылаемых людям
за сквернословие - можно объяснять по-разному. Во-первых, разумеется, не
исключается автохтонное формирование этого текста, поскольку его риторику
можно считать вторичной по отношению к поучению Фотия Волоколамского.
При этом “Слово” вполне соответствует религиозной программе “боголюбцев”
и государственной политике 1630-х - 1650-х годов. С другой стороны, здесь
нельзя исключить и западного влияния, поскольку борьба со сквернослови-
ем и божбой была значимой частью социальных процессов, сопровождавших
Реформацию и Контрреформацию в разных европейских странах. В-третьих,
наконец, можно допустить и непосредственную связь этого текста с религиоз-
ной культурой Христианского Востока и Балкан, поскольку именно в новогре-
ческом языке и у балканских славян параллельно с “материнскими” инвекти-
вами существуют коитальные формулы с упоминанием Богоматери и святых
(Жельвис 2001: 170, 225; Hentschel 2003: 302; Ljung 2011: 123). Эти вопросы,
а также ряд деталей, сопровождавших религиозные интерпретации матерной
брани в русской культуре XVI-XVII вв. (“тема пса”, табуированное скверносло-
вие как “жидовская брань” и др.) нуждаются в дополнительном исследовании.
И государственные запреты на “матерную лаю”, и упомянутые визионер-
ские эпидемии, и “Слово о матерной брани” очевидным образом повлияли на
массовое религиозное восприятие табуированных инвектив, а также генеа-
логию лексического и формульного канонов “русского мата” в последующие
столетия. Однако траектория “дисциплинарной революции” резко изменилась
при Петре I, легализовавшем употребление и продажу табака и как бы анну-
лировавшем религиозные запреты на матерную брань и пьянство посредством
публичной пародийно-кощунственной ритуалистики, в частности Всешутей-
шего собора (см.: Живов 2002: 402-423; Трахтенберг 2005; Усенко 2005; Зицер
2008). В результате светские власти вновь обратили внимание на табуирован-
ное сквернословие лишь при Екатерине II, когда в “Устав благочиния” (1782)
40
Этнографическое обозрение № 2, 2023
был включен запрет (ст. 222) “всем и каждому в общенародном месте, или при
людях благородных, или выше его чином, или старее летами, или при женском
поле употреблять бранные или непотребные слова”, а за его нарушение полага-
лось “взыскать пеню полусуточное содержание в смирительном доме, и сажать
его под стражу дондеже заплатит” (ПСЗРИ 1830: 480, 484-485). Впрочем, это
временное “забвение” матерной брани со стороны государства не означало, что
в массовой культуре она утратила религиозно-мифологические, в том числе ко-
щунственные, смыслы и коннотации. Об этом пойдет речь в следующей статье.
Примечание
1 Здесь можно еще вспомнить довольно наивную гипотезу Д.К. Зеленина,
обратившего внимание, что “русская неприличная брань с упоминанием матери
служит… оберегом, защитой от злых демонов”. Исходя из этих наблюдений,
исследователь высказал предположение, что подобные ругательства могут быть
своеобразным символом возрастного доминирования: «Так называемая матер-
ная русская брань равносильна, собственно, бранным выражениям “молоко-
сос”, “щенок” и т.п., подчеркивающим юность и неопытность объекта брани.
Ругающийся выставляет здесь себя как бы отцом того, кого он бранит; непри-
личная формула матерной ругани означает…: “Я твой отец!” Точнее: “Я мог
быть твоим отцом!” - Демоны трусливы, и их, очевидно, запугивает такое на-
хальное уверение в мнимом отцовстве» (Зеленин 1929: 18-19).
2 Работа Б.А. Успенского, цитируемая здесь по публикации 1996 г., впервые
была опубликована двумя частями в журнале Studia Slavica Academiae Scientiarum
Hungaricae (1983. T. 29. Fasc. 1-4. P. 33-69; 1987. T. 33. Fasc. 1-4. P. 37-76).
3 См. также соображения, высказанные мной в другой работе: Панченко
2005.
4 Ср.: “Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти”
(Исх. 21: 17); “кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет пре-
дан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем” (Лев. 20: 9).
5 Между статьей о жидовствующих и видениями девицы Гликерии и попа
Александра помещено сообщение об оставлении кафедры ростовским архие-
пископом Тихоном Малышкиным (участвовавшим, кстати, в церковном соборе
1490 г. против жидовствующих), причем с неправильной датой - 7001 г. вместо
7011 (см.: Авдеев 2011).
6 Краткое изложение этих событий присутствует также в “Соловецком сбор-
нике повестей о чудесах и знамениях 1662-1663 гг.” (Панченко 2001: 454-455,
461-462).
Источники и материалы
ААЭ 1836 - Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи
археографической экспедицией Императорской академии наук. Т. 3. СПб.:
В Тип. 2 отд-ния Собственной Е. И. В. канцелярии, 1836.
АИ 1841 - Акты исторические, собранные и изданные Археографической ко-
миссией. Т. 1. СПб.: В Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг.
АИ 1842 - Акты исторические, собранные и изданные Археографической ко-
миссией. Т. 4. СПб.: В Тип. 2 отделения Собственной Е. И. В. канцелярии,
1842.
Герберштейн 1988 - Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. с нем.
А.И. Малеина, А.В. Назаренко. М.: Изд-во МГУ, 1988.
Грамоты 1892 - Грамоты на построение церквей и монастырей // Памятная
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
41
книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1893 год. Пермь: Перм-
ский губернский статистический комитет, 1892. Отд. V. С. 9-13.
Идес, Бранд 1967 - Идес И., Бранд А. Записки о русском посольстве в Китае
(1692-1695) / Вст. ст., пер. и комм. М.И. Казанина. М.: Наука, 1967.
Летописец 1892 - Летописец, списанный св. Дмитрием в Украине с готового
2-й редакции до 1617 г... / Изд. Амфилохия, епископа Угличского. М.: Тип.
А.И. Снегиревой, 1892.
Олеарий 2003 - Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. с нем.
А.М. Ловягина. Смоленск: Русич, 2003.
ПСЗРИ 1830 - Полное собрание законов Российской Империи. T. XXI. СПб.:
Гос. тип., 1830.
ПСЛ 1862 - Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом
Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. 4. Повести религиозного содержания, древ-
ние поучения и послания, извлеченные из рукописей Николаем Костомаро-
вым. СПб.: тип. Кулиша, 1862.
РИБ 1880 - Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической
комиссией. Т. VI. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1880.
РИБ 1927 - Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической
комиссией. Т. XXXIX. СПб.: Издание Академии Наук СССР, 1927.
СРНГ 1982 - Словарь русских народных говоров. Т. 18 / Гл. ред. Ф.П. Филин.
Л.: Наука, 1982.
СРНГ 2001 - Словарь русских народных говоров. Т. 35 / Гл. ред. Ф.П. Сороко-
летов. СПб., Наука: 2001.
Стоглав 1863 - Стоглав. СПб.: Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1863.
Уставная грамота 1886 - Уставная грамота Темниковского собора протопопу
о производстве суда и церковной расправы // Известия Тамбовской ученой
архивной комиссии. 1886. Вып. VIII. С. 71-76.
ЭССЯ 1990 - Этимологический словарь славянских языков: праславянский лек-
сический фонд. Вып. 17 / Под ред. О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1990.
ЭССЯ 1993 - Этимологический словарь славянских языков: праславянский лек-
сический фонд. Вып. 18 / Под ред. О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1993.
Miege 1669 - Miege G. A Relation of Three Embassies from His Sacred Majestie
Charles II to the Great Duke of Muscovie… Performed by the Right Hoble the
Earle of Carlisle in the Years 1663 & 1664. L.: John Starkey, 1669.
Olearius 1647 - Olearius A. Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen
Rejse. Schleswig: Jacob zur Glocken, 1647.
Научная литература
Авдеев А.Г. Надгробие архиепископа Ростовского и Ярославского Тихона //
Вестник ПСТГУ. Серия II, История. История Русской Православной Церк-
ви. 2011. Вып. 4 (41). С. 99-104.
Агапкина Т.А., Топорков А.Л. Ритуальное обнажение в народной культуре сла-
вян // Мифология и повседневность: гендерный подход в антропологических
дисциплинах: материалы научной конференции, 19-21 февраля 2001 г. / Сост.
К.А. Богданов, А.А. Панченко. СПб.: Алетейя, 2001. С. 11-25.
Агапкина Т.А., Валенцова М.М., Топорков А.Л. Нагота // Славянские древности.
Этнолингвистический словарь. Т. III. М.: Международные отношения, 2004.
С. 355-360.
Алексеев А.И. Под знаком конца времен: очерки русской религиозности конца
XIV - начала XVI вв. СПб.: Алетейя, 2002.
Бабалык М.Г. К изучению рукописной традиции “Слова о матерной брани” //
42
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2014.
№ 7 (144). С. 66-69.
Бабалык М.Г. “Слово о матерной брани” в рукописях заонежских крестьян //
Церковь Преображения Господня: 300 лет на заонежской земле. Материа-
лы Всероссийской научной конференции, приуроченной к 300-летию Пре-
ображенской церкви на острове Кижи. Петрозаводск: Изд. ПетрГУ, 2015.
С. 317-324.
Бабалык М.Г. Рукописные сочинения о хмеле, матерной брани и табаке: про-
блема циклизации // Православие в Карелии: материалы IV научной конфе-
ренции, посвященной 25-летию возрождения Петрозаводской и Карельской
епархии (25-26 ноября 2015 года, г. Петрозаводск) / Под ред. А.М. Пашкова.
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. С. 291-303.
Бабалык М.Г. Этиологические легенды о хмеле и табаке в рукописных сочине-
ниях XVII-XX вв. // Славянская традиционная культура и современный мир.
Вып. 19, Слово. Время. Человек / Сост. В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова,
Т.М. Санникова, А.В. Черных. Пермь, СПб.: Маматов, 2021. С. 144-159.
Белкин А.А. Русские скоморохи. М.: Наука, 1975.
Борисов В.Е. “Чтобы перестали матерною бранью бранитца”: видения в слободах
Верхотурского уезда 1688 г. // Новый исторический вестник. 2009. № 4. С. 67-71.
Борисов В.Е. Видения жителей Верхотурского уезда об “отставлении” матерной
брани (1687-1691 гг.): исследование и тексты // О вере и суевериях: сборник
статей в честь Е.Б. Смилянской / Сост. В.Е. Борисов; отв. ред. Д.И. Антонов.
М.: Индрик, 2014. С. 106-136.
Бровкина Т.В. Древнерусские повести о происхождении табака: проблемы исто-
рии текста и сюжетной организации. Дис. … канд. филол. н. Сыктывкар-
ский государственный университет, Сыктывкар, 2020.
Буланин Д.М. Поучение о матерной брани // Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4, Т-Я / Ред. Д.М. Буланин. СПб.: Дми-
трий Буланин, 2004. С. 535-539.
Буланин Д.М., Романова А.А. Чудеса о иконе Спаса Нерукотворного на Красном
Бору // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.).
Ч. 4, Т-Я / Ред. Д.М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 249-252.
Вечеслова Г.Л. Мат (нецензурная ругань) // Этимологический словарь русского
языка / Под ред. А.Ф. Журавлева, Н.М. Шанского. Вып. 10. М.: Изд-во Мо-
сковского ун-та, 2007. С. 91.
Власов А.Н. Сказания и повести о местночтимых святых и чудотворных иконах
Вычегодско-Северодвинского края XVI-XVIII веков: тексты и исследова-
ния. СПб.: Пушкинский Дом, 2011.
Ђурић Д.С. Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена.
Београд: Балканолошки институт САНУ, 2020.
Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и
культурах мира. М.: Ладомир, 2001.
Живов В. Два этапа дисциплинарной революции в России XVII и XVIII столе-
тия // Cahiers du monde russe. 2012. Т. 53. № 2-3. P. 349-374.
Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры.
М.: Языки славянской культуры, 2002.
Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. II,
Запреты в домашней жизни. Л.: [б.и.], 1929.
Зенкова О.Б., Копытков В.В. Три явления иконы “Знамение Божией Матери” в
Устюжском уезде // Вестник церковной истории. 2020. № 3-4. С. 214-227.
Зицер Э. Царство Преображения: священная пародия и царская харизма при
дворе Петра Великого. М.: НЛО, 2008.
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
43
Иванов П. Описание Государственного архива старых дел. М.: тип. С. Селива-
новского, 1850.
Корогодина М.В. Исповедь в России в XIV-XIX вв.: исследование и тексты.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2006.
Лавров А.С., Морохин А.В. Ревнители благочестия: очерки церковной и литера-
турной деятельности. СПб.: Наука, 2021.
Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М.: Индрик, 2002.
Михайлин В.Ю. Русский мат как мужской обсценный код. Проблема происхож-
дения и эволюция статуса // “Злая лая матерная…” / Под ред. В.И. Жельвиса.
М.: Ладомир, 2005. С. 69-137.
Мороз А.Б. К вопросу о контактах живых с умершими: как покойники защища-
ются от живых // Словесность и история. 2021. № 2. С. 75-87.
Никольский А.И. Памятник и образец народного языка и словесности Севе-
родвинской области // Известия ОРЯС АН (СПб.). 1912. Т. XVII. Кн. 1.
С. 87-105.
Орлов А.С. Исторические и поэтические повести об Азове: тексты. СПб.:
Синод. Тип., 1906.
Орлов А.С. Народные предания о святынях русского Севера // Чтения в
Императорском обществе истории и древностей российских при Москов-
ском университете. 1913. Кн. 1 (244). Отд. III. С. 47-55.
Панченко А.А. Матерная брань в религиозном контексте // “Злая лая матер-
ная…” / Под ред. В.И. Жельвиса. М.: Ладомир, 2005. С. 138-161.
Панченко А.А. Иван и Яков - необычные святые из болотистой местности:
“Крестьянская агиология” и религиозные практики в России Нового време-
ни. М.: НЛО, 2012.
Панченко О.В. Соловецкий сборник повестей о чудесах и знамениях 1662-
1663 гг. // Книжные центры Древней Руси: Соловецкий монастырь / Отв.
ред. С.А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 444-464.
Паршин А.Н. “Богородица - мать сыра земля…” (о трех лекциях в Московской
Духовной академии) // Вестник ПСТГУ. Серия I, Богословие. Философия.
2011. Вып. 5 (37). С. 71-81.
Пильщиков И. Русский мат: что мы о нем знаем? (О происхождении и функциях
русской обсценной идиоматики) // Зборник Mатице српске за славистику.
2021. Кн. 100. С. 709-760.
Пильщиков И., Иоффе Д. Русский мат: вчера, сегодня, завтра // Зборник Mатице
српске за славистику. 2021. Кн. 100. С. 691-708.
Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хро-
нографы русской редакции. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1869а.
Попов А.Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М.: Тип. А.И. Мамон-
това и К°, 1869б.
Родосский А. Описание 432-х рукописей, принадлежащих Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии и составляющих ее первое по времени собрание.
СПб.: Тип. А.О. Башкова, 1893.
Рождественский Н.В. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголо-
сками язычества и пороками в русском быту XVII в.: Челобитная нижего-
родских священников 1636 г. в связи с первоначальной деятельностью Ивана
Неронова // Чтения в Императорском обществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете. Кн. 2, Смесь. 1902. С. 1-31.
Романова А.А. Чудеса о иконе Богоматери Одигитрии Цесарской в Сольвыче-
годске // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3, XVII в.
Ч. 4, Т-Я / Ред. Д.М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 243-244.
Романова А.А. Почитание святых и чудотворных икон в России в конце XVI -
44
Этнографическое обозрение № 2, 2023
начале XVIII в.: религиозная практика и государственная политика. Дис.
… докт. ист. н. Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург, 2016.
Ромодановская Е.К. Сказание о явлении Казанской иконы Богородицы в То-
больске // Христианство и церковь в России феодального периода (материа-
лы) / Отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск: Наука, 1989. С. 45-58.
Ромодановская Е.К. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск: Наука, 2002.
Русинова И.И., Черных А.В., Шумов К.Э., Королёва С.Ю. Этнодиалектный словарь
мифологических рассказов Пермского края. Ч. 1, Люди со сверхъестественны-
ми свойствами / Oтв. ред. И.И. Русинова. СПб.: Изд-во Маматов, 2019.
Савельева Н.В. Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Русского
Севера: Пинега и Мезень. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010.
Свешникова Т.Н., Цивьян Т.В. К исследованию семантики балканских фольклор-
ных текстов // Структурно-типологические исследования в области граммати-
ки славянских языков / Отв. ред. А.А. Зализняк. М.: Наука, 1973. С. 197-238.
Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерус-
ских пергаменных кодексов XI-XIV веков. М.: Наука, 2000.
Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале. М.: Русский фонд содействия об-
разованию и науке, 2015.
Топорков А.Л. Материалы по славянскому язычеству (культ матери - сырой зем-
ли в дер. Присно) // Древнерусская литература: источниковедение / Отв. ред.
Д.С. Лихачев. Л.: Наука, 1984. С. 222-233.
Трахтенберг Л.А. Сумасброднейший, Всешутейший и Всепьянейший собор //
Одиссей: Человек в истории. Вып. 17. М.: Наука, 2005. С. 89-118.
Уо Д.К. История одной книги: Вятка и “не-современность” в русской культуре
Петровского времени. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
Усенко О.Г. Сумасброднейший собор // Родина. 2005. № 2. С. 61-67.
Успенский Б.А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии //
Анти-мир русской культуры. Язык, фольклор, литература / Сост. Н. Богомо-
лов. М.: Ладомир, 1996. С. 9-107.
Харузин Н.Н. К вопросу о борьбе Московского правительства с народными язы-
ческими обрядами и суевериями в первой половине XVII в. // Этнографиче-
ское обозрение. 1897. Кн. XXXII. № 1. С. 143-151.
Храмов Ю.В. Две заметки о русских ругательствах // Studia Slavica Savariensia.
2000. Vol. 1. S. 99-106.
Шаповалов А.В. Табак в Западной Сибири в XVII-XVIII вв. // Чуждое - чужое -
наше. Наблюдения к проблеме взаимодействия культур / Отв. ред. А.Е. Демид-
чик. Новосибирск: Новосибирский гос. педагогический ун-т, 2000. С. 107-121.
Шашков А.Т. Избранные труды. Екатеринбург: Изд-во Баско, 2013.
Щапов А.П. Сочинения. Т. II. СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1906.
Abrahams R.D. “Playing the Dozens” // Journal of American Folklore. 1962. Vol. 75.
No. 297. P. 209-220.
Burke P. Popular Culture in Early Modern Europe. N.Y.: Harper & Row, 1978.
Chrissidis N.A. Sex, Drink, and Drugs: Tobacco in Seventeenth-Century Russia //
Tobacco in Russian History and Culture: From the Seventeenth Century to
the Present / Edited by Matthew P. Romaniello and Tricia Starks. New York:
Routledge, 2009. P. 26-43.
Drettas G. Jamais le jeudi… À propos de sainte Paraskevi, vierge et martyre // Revue
des études slaves. 1995. T. 67. No. 1. P. 167-185.
Dundes A. Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and Semitic
Worldview // The Evil Eye: A Casebook / Ed. A. Dundes. Madison: The University
of Wisconsin Press, 1981. P. 257-312.
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
45
Dundes A., Leach J.W., Özkök B. The Strategy of Turkish Boys’ Verbal Dueling
Rhymes // Journal of American Folklore. 1970. Vol. 83. No. 329. P. 325-349.
Gimbel L.M. Bawdy Badges and the Black Death: Late Medieval Apotropaic Devices
against the Spread of the Plague. MA Thesis, University of Louisville, 2012.
Hentschel E. The Expression of Gender in Serbian // Gender Across Languages:
The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. III / Eds. M. Hellinger,
H. Busmann. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2003. P. 287-310.
Isačenko A.V. Un juron russe du 16-e siècle // Lingua viget. Commentationes slavicae
in honorem V. Kiparsky / Eds. V. Kiparsky, I. Vahros, M. Kahla. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino, 1964. P. 68-70.
Kefeli-Clay A. La supplique des prêtres de Niznij-Novgorod en l’an 1636 // Cahiers
du monde russe et soviétique. 1990. T. 31. No. 1. P. 77-94.
Lefever H.G. “Playing the Dozens”: A Mechanism for Social Control // Phylon. 1981.
Vol. 42. No. 1. P. 73-85.
Levin E. Tobacco and Health in Early Modern Russia // Tobacco in Russian History
and Culture: From the Seventeenth-Century to the Present / Eds. M.P. Romaniello
and T. Starks. N.Y.: Routledge, 2009. P. 44-60.
Ljung M. Swearing: A Cross-Cultural Linguistic Study. L.: Palgrave Macmillan, 2011.
Mesnil M., Popova A. Démone et chrétienne: sainte Vendredi // Revue des études
slaves. 1993. T. 65. № 4. P. 743-762.
Romaniello M.P. Muscovy’s Extraordinary Ban on Tobacco // Tobacco in Russian
History and Culture: From the Seventeenth Century to the Present / Eds.
M.P. Romaniello, T. Starks. N.Y.: Routledge, 2009. P. 9-25.
R e s e a r c h A r t i c l e
Panchenko, A.A. Peasants, Icons, and Obscenities [Krest’iane, ikony i
maternaia bran’]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 2, pp. 21-51. https://
doi.org/10.31857/S0869541523020021 EDN: QOPPRX ISSN 0869-5415 ©
Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS
Alexander
Panchenko
|
|
apanchenko2008@gmail.com
|
European University at St. Petersburg
(6/1a
Gagarinskaya Str., St. Petersburg, 191187, Russia) | The Institute of Russian
Literature of the Russian Academy of Science (Pushkin House) (4 Makarova Emb.,
St. Petersburg, 199034, Russia) | The University of Tartu (18 Ülikooli Str., Tartu,
50090, Estonia)
Keywords
Russian obscenities, mat, blasphemy, sacrilege, history of Russian culture, disciplinary
revolution, miracle working icons, sacred places, eschatology, moral panics
Abstract
The article examines religious, ritual, and moral contexts in the history of semantics
and social trajectories of the Russian obscene vocabulary and phraseology known as
“mat”. Transhistorical representations of the “Russian mat” as a steady set of lexemes
and formulae do not seem to be correct. Moreover, it is possible to discuss not only
historical transformations of the concept, but its genealogy and, so to speak, invention.
One of the few concepts explaining religious and mythological meanings of “mat”
was formulated in the 1980s by Boris A. Uspenskii who argued that pre-Christian
Slavic obscenities were related to agrarian magic of fertility. This article presents an
46
Этнографическое обозрение № 2, 2023
alternative hypothesis and argues that the “invention” and religious interpretation of
the “Russian mat” as a specific and blasphemous type of obscenities took place in
Muscovy in the 16th and 17th century as a part of attempted “disciplinary revolution”
aimed at popular religious and ritual culture. Local “visionary epidemics” in the
17th century that involved condemnation of “mat”, tobacco, and drunkenness can be
viewed as moral panics stimulated by the state and church elites. At the same time,
the panics led to the establishment of new cults of miracle working icons and sacred
sites. Popular beliefs and prohibitions related to “mat” in the 19th and 20th centuries
were informed by a number of different factors and did not go back to any single
pre-Christian source.
Funding Information
This research was supported by the following institutions and grants:Russian Science
References
Abrahams, R.D. 1962. “Playing the Dozens”. Journal of American Folklore 75: 209-220.
Agapkina, T.A., and A.L. Toporkov. 2001. Ritual’noe obnazhenie v narodnoi kul’ture
slavian [Ritual Nudity in Slavic Popular Culture]. In Mifologiia i povsednevnost’:
gendernyi podkhod v antropologicheskikh distsiplinakh [Mythology and Day-to-
day Life: Gender Oriented Approach in Anthropological Research], edited by
К.А. Bogdanov and А.А. Panchenko, 11-25. St. Petersburg: Aleteiia.
Agapkina, T.A., M.M. Valentsova, and A.L. Toporkov. 2004. Nagota [Nudity].
In Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’
[Slavic Antiquities:
Ethnolingustic Dictionary]. Vol. III:
355-360. Moscow: Mezhdunarodnye
otnosheniia.
Alekseev, A.I. 2002. Pod znakom kontsa vremen: ocherki russkoi religioznosti kontsa
XIV - nachala XVI vv. [Under the Sign of the End of Times: Essays on Russian
Religiosity in the Late 14th - Early 16th Centuries]. St. Petersburg: Aleteiia.
Avdeev, A.G. 2011. Nadgrobie arkhiepiskopa Rostovskogo i Yaroslavskogo Tikhona
[The Gravestone of the Archbishop of Rostov and Yaroslavl Tikhon]. Vestnik
PSTGU. Seriia II, Istoriia. Istoriia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi 4 (41): 99-104.
Babalyk, M.G. 2014. K izucheniiu rukopisnoi traditsii “Slova o maternoi brani”
[To the Study of Manuscript Tradition of the “Homily about Obscene Insults”].
Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta 7 (144): 66-69.
Babalyk, M.G. 2015. “Slovo o maternoi brani” v rukopisiakh zaonezhskikh krest’ian
[The “Homily about Obscene Insults” in Zaonezhie Peasant Manuscripts].
In Tserkov’ Preobrazheniia Gospodnia: 300 let na zaonezhskoi zemle. Materialy
Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii, priurochennoi k 300-letiiu Preobrazhenskoi
tserkvi na ostrove Kizhi [Three Centuries of the Transfiguration Church in
Zaonezhie: Proceedings of the Conference Dedicated to 300th Anniversary of the
Transfiguration Church at Kizhi Island], 317-324. Petrozavodsk: Petrozavodsk
State University.
Babalyk, M.G. 2016. Rukopisnye sochineniia o khmele, maternoi brani i tabake:
problema tsiklizatsii [Manuscript Tales about Hop, Obscene Insults, and
Tobacco: The Problem of Сyclization]. In Pravoslavie v Karelii: materialy IV
nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 25-letiiu vozrozhdeniia Petrozavodskoi i
Karel’skoi eparkhii (25-26 noiabria 2015 goda, g. Petrozavodsk) [Orthodoxy in
Karelia: Proceedings of the 4th Conference Dedicated to the 25th Anniversary of
Restoration of the Petrozavodsk and Karelia Diocese (Petrozavodsk, November
25-26, 2015)], edited by A.M. Pashkov, 291-303. Petrozavodsk: Petrozavodsk
State University.
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
47
Babalyk, M.G. 2021. Etiologicheskie legendy o khmele i tabake v rukopisnykh
sochineniiakh XVII-XX vv. [Etiological Legends about Hop and Tobacco in
Manuscript Tales of the 17th-20th Centuries]. Slavianskaia traditsionnaia kul’tura
i sovremennyi mir 19: 144-159.
Belkin, A.A. 1975. Russkie skomorokhi [Russian Skomorokhs]. Moscow: Nauka.
Borisov, V.E. 2009. “Chtoby perestali maternoiu bran’iu branittsa”: videniia v
slobodakh Verkhoturskogo uezda 1688 g. [“To Abandon Obscene Insults”:
Visions in the Verkhotursk District in 1688. Novyi istoricheskii vestnik 4: 67-71.
Borisov, V.E. 2014. Videniia zhitelei Verkhoturskogo uezda ob “otstavlenii” maternoi
brani (1687-1691 gg.): issledovanie i teksty [Visions about “Abandoning”
Obscene Insults in the Verkhotursk District (1687-1691): Texts and Research.
In O vere i sueveriiakh: sbornik statei v chest’ E.B. Smilianskoi [On Belief and
Superstition: Essays in Honor of E.B. Smilianskaia], edited by V.E. Borisov and
D.I. Antonov, 106-136. Moscow: Indrik.
Brovkina, T.V. 2020. Drevnerusskie povesti o proiskhozhdenii tabaka: problemy
istorii teksta i siuzhetnoi organizatsii [Old Russian Tales about Tobacco: History
of the Text and Its Composition]. PhD diss. Syktyvkar State University, 2020.
Bulanin, D.M. 2004. Pouchenie o maternoi brani [Homily about Obscene Insults].
In Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi [Dictionary of Scribes and
Bookishness of Ancient Rus]. Vol. 3, XVII Century. Pt. 4, T-Ya, edited by
D.M. Bulanin, 535-539. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
Bulanin, D.M., and A.A. Romanova. 2004. Chudesa o ikone Spasa Nerukotvornogo
na Krasnom Boru [Miracles of the Savior Not-Made-By-Hands Icon at Krasnyi
Bor]. In Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi [Dictionary of Scribes
and Bookishness of Ancient Rus]. Vol. 3, XVII Century. Pt. 4, T-Ya, edited by
D.M. Bulanin, 249-252. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
Burke, P. 1978. Popular Culture in Early Modern Europe. New York: Harper & Row.
Chrissidis, N.A. 2009. Sex, Drink, and Drugs: Tobacco in Seventeenth-Century
Russia. In Tobacco in Russian History and Culture: From the Seventeenth
Century to the Present, edited by M.P. Romaniello and T. Starks, 26-43. New
York: Routledge.
Drettas, G. 1995. Jamais le jeudi… À propos de sainte Paraskevi, vierge et martyre
[Never on Thursday… On Saint Paraskeva, a Virgin and a Martyr]. Revue des
études slaves 67 (1): 167-185.
Dundes, A. 1981. Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and
Semitic Worldview. In The Evil Eye: A Casebook, edited by A. Dundes, 257-312.
Madison: The University of Wisconsin Press.
Dundes, A., J.W. Leach, and B. Özkök. 1970. The Strategy of Turkish Boys’ Verbal
Dueling Rhymes. Journal of American Folklore 83: 325-349.
Dzhurić, D.S. 2020. Dani u nedel’i u narodnoј kulturi Јuzhnikh i Istochnikh Slovena
[Days of the Week in Folk Culture of South Slavs and East Slavs]. Belgrade:
Balkanoloshki institut SANU.
Gimbel, L.M. 2012. Bawdy Badges and the Black Death: Late Medieval Apotropaic
Devices Against the Spread of the Plague. MA Thesis. University of Louisville.
Hentschel, E. 2003. The Expression of Gender in Serbian. In Gender Across
Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. III, edited by
M. Hellinger and H. Busmann, 287-310. Amsterdam: John Benjamins Publishing
Company.
Isačenko, A.V. 1964. Un juron russe du 16-e siècle [A Russian Swearword from the
16th Century]. In Lingua viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky
[Language Flourishes: Slavic Studies in Honor of V. Kiparsky], edited by V.
48
Этнографическое обозрение № 2, 2023
Kiparsky, I. Vahros, and M. Kahla, 68-70. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Kirjapaino.
Ivanov, P. 1850. Opisanie Gosudarstvennogo arkhiva starykh del [Decription of the
State Archives of Old Cases]. Moscow: S. Selivanovskii.
Kefeli-Clay, A. 1990. La supplique des prêtres de Niznij-Novgorod en l’an 1636
[The Petition of the Nizhnii Novgorod Priests in 1636]. Cahiers du monde russe
et soviétique 31 (1): 77-94.
Kharuzin, N.N. 1897. K voprosu o bor’be Moskovskogo pravitel’stva s narodnymi
yazycheskimi obriadami i sueveriiami v pervoi polovine XVII v. [On the Struggle
of the Moscow Government against Popular and Pagan Rites and Superstitions in
the First Half of the 17th Century]. Etnograficheskoe obozrenie 1: 143-151.
Khramov, Y.V. 2000. Dve zametki o russkikh rugatel’stvakh [Two Notes on Russian
Invectives]. Studia Slavica Savariensia 1: 99-106.
Korogodina, M.V. 2006. Ispoved’ v Rossii v XIV-XIX vv.: issledovanie i teksty
[Confession in Russia in 14th-19th Centuries: Research and Texts]. St. Petersburg:
Dmitrii Bulanin.
Lavrov, A.S. and A.V. Morokhin. 2021. Revniteli blagochestiia: ocherki tserkovnoi i
literaturnoi deiatel’nosti [Zealots of Piety: Essays on Their Church and Literary
Works]. St. Petersburg: Nauka.
Lefever, H.G. 1981. “Playing the Dozens”: A Mechanism for Social Control. Phylon
42 (1): 73-85.
Levin, E. 2009. Tobacco and Health in Early Modern Russia. In Tobacco in Russian
History and Culture: From the Seventeenth-Century to the Present, edited by
M.P. Romaniello and T. Starks, 44-60. New York: Routledge.
Levkievskaia, E.E. 2002. Slavianskii obereg. Semantika i struktura [Slavic Apotropaic
Magic: Semantics and Structure]. Moscow: Indrik.
Ljung, M. 2011. Swearing: A Cross-Cultural Linguistic Study. London: Palgrave
Macmillan.
Mesnil, M., and A. Popova. 1993. Démone et chrétienne: sainte Vendredi [A Demoness
and a Christian: St. Friday]. Revue des études slaves 65 (4): 743-762.
Mikhailin, V.Y. 2005. Russkii mat kak muzhskoi obstsennyi kod. Problema
proiskhozhdeniia i evoliutsiia statusa [Russian Mat as Male Obscene Code: The
Problem of Genesis and Evolution]. In “Zlaia laia maternaia…” [“Evil Obscene
Insults…”], edited by V.I. Zhelvis, 69-137. Moscow: Ladomir.
Moroz, A.B. 2021. K voprosu o kontaktakh zhivykh s umershimi: kak pokoiniki
zashchishchaiutsia ot zhivykh [On Contacts between the Living and the Dead: How
the Deseased Protect Themselves from the Living]. Slovesnost’ i istoriia 2: 75-87.
Nikolskii, A.I. 1912. Pamiatnik i obrazets narodnogo yazyka i slovesnosti severo-
Dvinskoi oblasti [A Memorial and Example of Popular Language and Literature
of the North Dvina Region]. Izvestiia ORIaS AN 17 (1): 87-105.
Orlov, A.S. 1906. Istoricheskie i poeticheskie povesti ob Azove: teksty [Historical and
Poetic Tales about Azov: Texts]. St. Petersburg: Tipographiia Sinoda.
Orlov, A.S. 1913. Narodnye predaniia o sviatyniakh russkogo Severa [Folk Legends
about Sacred Places of the Russian North]. Chteniia v Imperatorskom obshchestve
istorii i drevnostei rossiiskikh pri Moskovskom universitete 1: 47-55.
Panchenko, A.A. 2005. Maternaia bran’ v religioznom kontekste [Russian Obscene
Insults in Religious Context]. In Zlaia laia maternaia…” [“Evil Obscene
Insults…”], edited by V.I. Zhelvis, 138-161. Moscow: Ladomir.
Panchenko, A.A. 2012. Ivan i Yakov - neobychnye sviatye iz bolotistoi mestnosti:
“Krest’ianskaia agiologiia” i religioznye praktiki v Rossii Novogo vremeni
[Ioann and Iakov, Unusual Saints from a Marshland: “Popular Hagiology” and
Religious Practices in Modern Russia]. Moscow: NLO.
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
49
Panchenko, O.V. 2001. Solovetskii sbornik povestei o chudesakh i znameniiakh
1662-1663 gg. [Solovki Manuscript with Tales about Miracles and Signs in 1662-
1663]. In Knizhnye tsentry Drevnei Rusi: Solovetskii monastyr’ [Bookish Centers
of Ancient Rus’: The Solovki Monastery], edited by S.A. Semiachko, 444-464.
St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
Parshin, A.N.
2011.
“Bogoroditsa - mat’ syra zemlia…” (o trekh lektsiiakh v
Moskovskoi Dukhovnoi akademii)
[“Theotokos, Mother-Raw-Earth…”
(On Three Lectures in the Moscow Spiritual Academy)]. Vestnik PSTGU. Seriia I,
Bogoslovie. Filosofiia 5 (37): 71-81.
Pilshchikov, I. 2021. Russkii mat: chto my o nem znaem? (O proiskhozhdenii i
funktsiiakh russkoi obstsennoi idiomatiki) [Russian “Mat”: What Do We Know
About It? (On the Origin and Functions of Russian Obscenities)]. Zbornik Matitse
srpske za slavistiku 100: 709-760.
Pilshchikov, I. and D. Ioffe. 2021. Russkii mat: vchera, segodnia, zavtra [Russian
“Mat”: Yesterday, Today, and Tomorrow]. Zbornik Matitse srpske za slavistiku
100: 691-708.
Popov, A.N. 1869. Izbornik slavianskikh i russkikh sochinenii i statei, vnesennykh
v khronografy russkoi redaktsii [A Collection of Slavic and Russian Narratives
and Notes Included in Russian Editions of the Chronograph]. Moscow:
A.I. Mamontov & Co.
Popov, A.N. 1869. Obzor khronografov russkoi redaktsii [A Review of Russian
Editions of the Chronograph]. Vol. 2. Moscow: A.I. Mamontov & Co.
Rodosskii, A.
1893. Opisanie
432-kh rukopisei, prinadlezhashchikh Sankt-
Peterburgskoi Dukhovnoi Akademii i sostavliaiushchikh ee pervoe po vremeni
sobranie [A Review of 432 Manuscripts Collected by the St. Petersburg Spiritiual
Academy]. St. Petersburg: A.O. Bashkov.
Romaniello, M.P. 2009. Muscovy’s Extraordinary Ban on Tobacco. In Tobacco in
Russian History and Culture: From the Seventeenth Century to the Present,
edited by M.P. Romaniello and T. Starks, 9-25. New York: Routledge.
Romanova, A.A. 2004. Chudesa o ikone Bogomateri Odigitrii Tsesarskoi v
Sol’vychegodske [Miracles of the Icon of Theotokos Odigitria Tsesarskaia in
Sol’vychegodsk]. In Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi [Dictionary of
Scribes and Bookishness of Ancient Rus]. Vol. 3, XVII Century. Pt. 4, Т-Ya,
edited by D.M. Bulanin, 243-244. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
Romanova, A.A. 2016. Pochitanie sviatykh i chudotvornykh ikon v Rossii v kontse
XVI - nachale XVIII v.: religioznaia praktika i gosudarstvennaia politika
[Veneration of Saints and Miracle Working Icons in Russia in the Late 16th - Early
18th Centuries: Religious Practice and State Politics]. PhD diss., St. Petersburg
State University.
Romodanovskaia, E.K. 1989. Skazanie o yavlenii Kazanskoi ikony Bogoroditsy
v Tobol’ske [A Tale of Apparition of the Icon of Theotokos Kazanskaia in
Tobol’sk]. In Khristianstvo i tserkov’ v Rossii feodal’nogo perioda (materialy)
[Christianity and Church in Russia in the Period of Feodalism (Sources)], edited by
N.N. Pokrovskii, 45-58. Novosibirsk: Nauka.
Romodanovskaia, E.K. 2002. Sibir’ i literatura. XVII vek [Siberia and Literature: The
17th Century]. Novosibirsk: Nauka.
Rozhdestvenskii, N.V. 1902. K istorii bor’by s tserkovnymi besporiadkami, otgoloskami
yazychestva i porokami v russkom bytu XVII v.: Chelobitnaia nizhegorodskikh
sviashchennikov 1636 g. v sviazi s pervonachal’noi deiatel’nost’iu Ivana Neronova
[On the History of Struggle against Church Disorders, Survivals of Paganism,
and Vices in 17th Century Russia: The 1636 Petition by Nizhnii Novgorod Priests
in Relation to Initial Activities by Ivan Neronov]. Chteniia v Imperatorskom
50
Этнографическое обозрение № 2, 2023
obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh pri Moskovskom universitete 2:1-31.
Rusinova, I.I., et al. 2019. Etnodialektnyi slovar’ mifologicheskikh rasskazov
Permskogo kraia [Ethnodialect Dictionary of Mythological Narratives of the
Perm’ Region]. Pt. 1, Liudi so sverkh’estestvennymi svoistvami [Humans with
Supernatural Properties], edited by I.I. Rusinova. St. Petersburg: Mamatov.
Savelieva, N.V. 2010. Skazaniia XVII veka o sviatyniakh, sviatykh i podvizhnikakh
Russkogo Severa: Pinega i Mezen’ [17th Century Tales of Sacred Objects, Saints, and
Zealots of the Russian North: Pinega and Mezen’]. St. Petersburg: Oleg Abyshko.
Shapovalov, A.V. 2000. Tabak v Zapadnoi Sibiri v XVII-XVIII vv. [Tobacco in
Western Siberia in the 17th and 18th Centuries]. In Chuzhdoe - chuzhoe - nashe.
Nabliudeniia k probleme vzaimodeistviia kul’tur [Alien - Strange - Habitual.
Studies on Interactions of Cultures], edited by A.E. Demidchik, 107-121.
Novosibirsk: Novosibirskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet.
Shashkov, A.T. 2013. Izbrannye trudy [Selected Works]. Ekaterinburg: Izdatel’stvo
Basko.
Shchapov, A.P. 1906. Sochineniia [Collected Works]. Vol. II. St. Peterburg: Izdanie
M.V. Pirozhkova.
Stoliarova, L.V.
2000. Svod zapisei pistsov, khudozhnikov i perepletchikov
drevnerusskikh pergamennykh kodeksov XI-XIV vekov [A Collection of Notes by
Scribes, Painters, and Bookbinders in Ancient Russian Parchment Codexes of the
11th-14th Centuries]. Moscow: Nauka.
Sveshnikova, T.N., and T.V. Tsivian. 1973. K issledovaniiu semantiki balkanskikh
fol’klornykh tekstov [On Semantics of Balkan Folklore Texts]. In Strukturno-
tipologicheskie issledovaniia v oblasti grammatiki slavianskikh yazykov
[Structural and Typological Studies in the Field of Slavic Grammar], edited by
A.A. Zalizniak, 197-238. Moscow: Nauka.
Tolstaia, S.M. 2015. Obraz mira v tekste i rituale [Image of the World in Text and
Ritual]. Moscow: Russkii fond sodeistviia obrazovaniiu i nauke.
Toporkov, A.L. 1984. Materialy po slavianskomu yazychestvu (kul’t materi - syroi
zemli v der. Prisno) [On the Slavic Paganism (the Cult of Mother-Raw-Earth
in Prisno Village)]. In Drevnerusskaia literatura: istochnikovedenie [Ancient
Russian Literature: Assessing the Sources], edited by D.S. Likhachev, 222-233.
Leningrad: Nauka.
Trakhtenberg, L.A. 2005. Sumasbrodneishii, Vseshuteishii i Vsep’ianeishii sobor
[The All-Mad, All-Jesting, and All-Drunken Assembly]. Odissei. Chelovek v
istorii 17: 89-118.
Usenko, O.G. 2005. Sumasbrodneishii sobor [The All-Mad Assembly]. Rodina 2: 61-67.
Uspenskii, B.A. 1996. Mifologicheskii aspekt russkoi ekspressivnoi frazeologii [The
Mythological Aspect of Russian Expressive Phraseology]. In Anti-mir russkoi
kul’tury. Yazyk, fol’klor, literatura [The Anti-World of Russian Culture: Language,
Folklore, Literature], edited by N. Bogomolov, 9-107. Moscow: Ladomir.
Vecheslova, G.L. 2007. Mat (netsenzurnaia rugan’) [Mat (Obscene Insults)]. In
Etimologicheskii slovar’ russkogo yazyka [Etymological Dictionary of Russian
Language], edited by A.F. Zhuravlev and N.M. Shanskii, 10: 91. Moscow:
Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.
Vlasov, A.N. 2011. Skazaniia i povesti o mestnochtimykh sviatykh i chudotvornykh
ikonakh Vychegodsko-Severodvinskogo kraia XVI-XVIII vekov: teksty i
issledovaniia [Narratives and Tales about Locally Worshipped Saints and Miracle
Working Icons in the Vychegda and North Dvina Region in the 16th-17th Centuries:
Texts and Research]. St. Petersburg: Pushkinskii Dom.
Waugh, D.C. 2003. Istoriia odnoi knigi: Viatka i “ne-sovremennost” v russkoi kul’ture
Petrovskogo vremeni [The History of a Book: Viatka and “Non-Modernity” in
Панченко А.А. Крестьяне, иконы и матерная брань
51
Russian Culture in the Era of Peter the Great]. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
Zelenin, D.K. 1929. Tabu slov u narodov Vostochnoi Evropy i Severnoi Azii [Verbal
Taboo among Peoples of Eastern Europe and Northern Asia]. Pt. II, Zaprety v
domashnei zhizni [Taboo in Everyday Life]. Leningrad.
Zenkova, O.B., and V.V. Kopytkov. 2020. Tri yavleniia ikony “Znamenie Bozhiei
Materi” v Ustiuzhskom uezde [Three Apparitions of the “Theotokos of the Sign”
Icon in the Ustiuzhskii district]. Vestnik tserkovnoi istorii 3-4: 214-227.
Zhelvis, V.I. 2021. Pole brani. Skvernoslovie kak sotsial’naia problema v yazykakh
i kul’turakh mira [Field of Battle: Obscenities as a Social Problem in World
Languages and Cultures]. Moscow: Ladomir.
Zhivov, V.M. 2002. Razyskaniia v oblasti istorii i predystorii russkoi kul’tury [Studies
in History and Prehistory of Russian Culture]. Moscow: Yazyki Slavianskoi
Kul’tury.
Zhivov, V. 2012. Dva etapa distsiplinarnoi revoliutsii v Rossii XVII i XVIII stoletiia
[Two Stages of Disciplinary Revolution in 17th and 18th Century Russia]. Cahiers
du monde russe 53 (2-3): 349-374.
Zitser, E. 2008. Tsarstvo Preobrazheniia: Sviashchennaia parodiia i tsarskaia
kharizma pri dvore Petra Velikogo [The Transfigured Kingdom: Sacred Parody
and Charismatic Authority at the Court of Peter the Great]. Moscow: NLO.