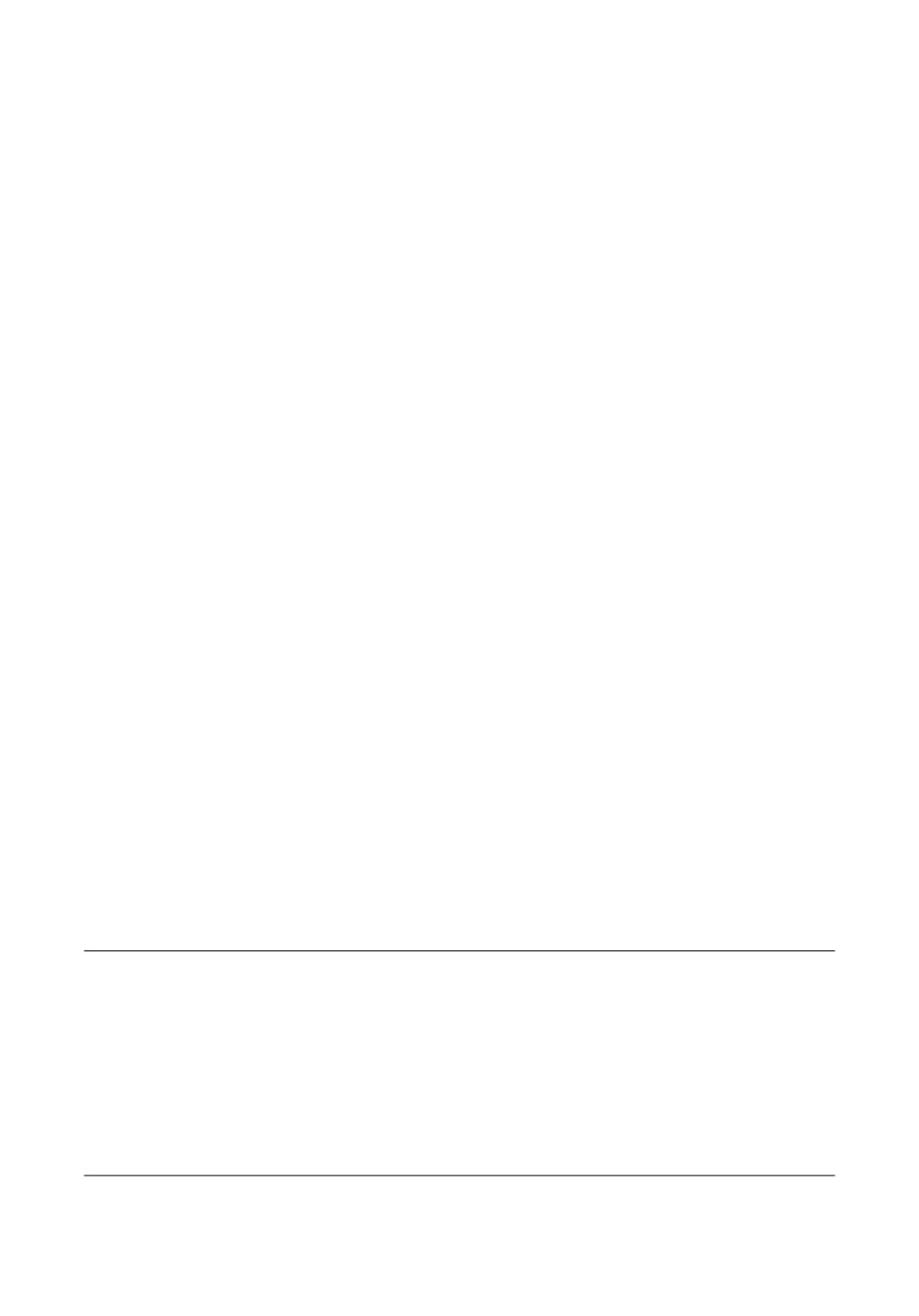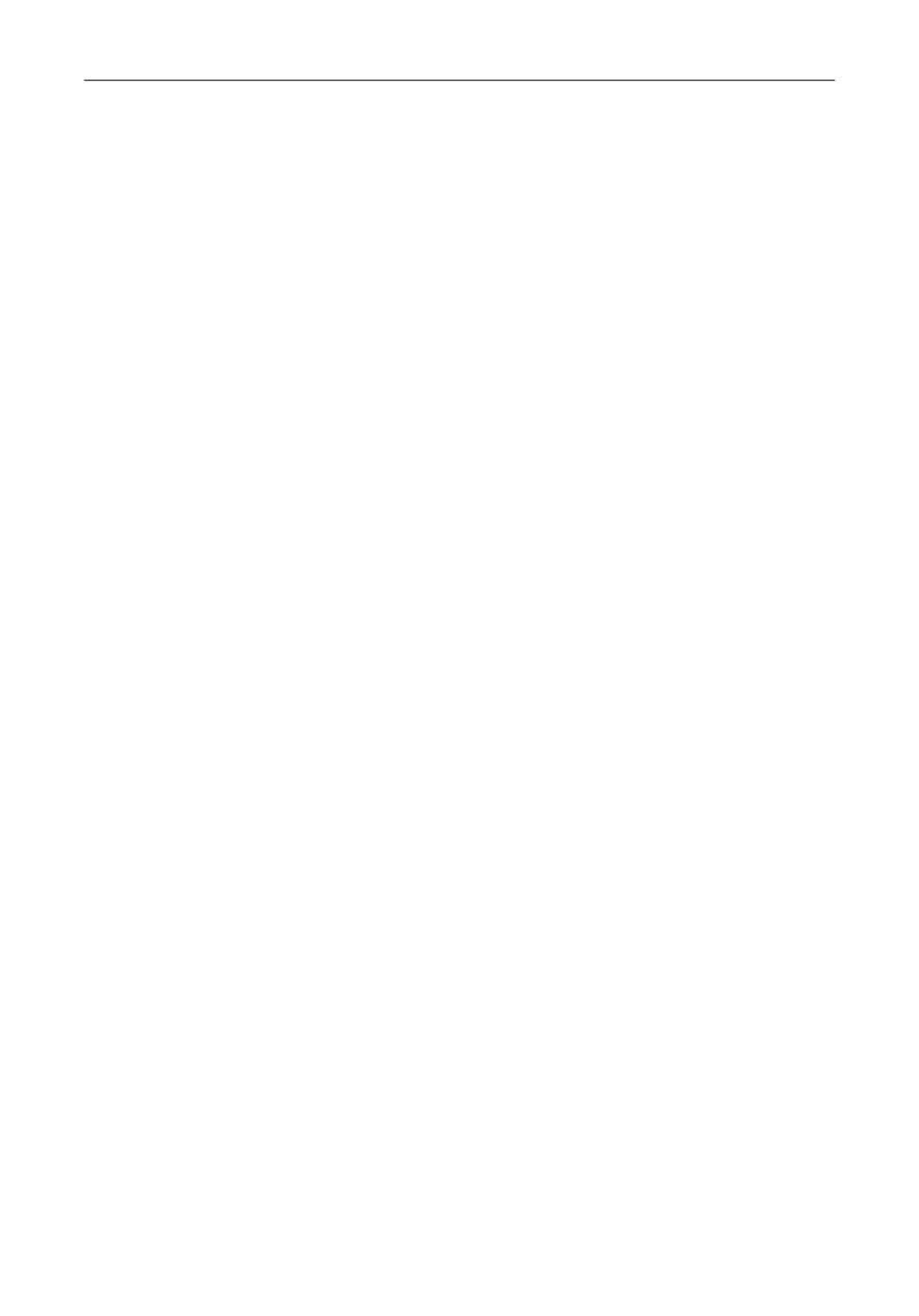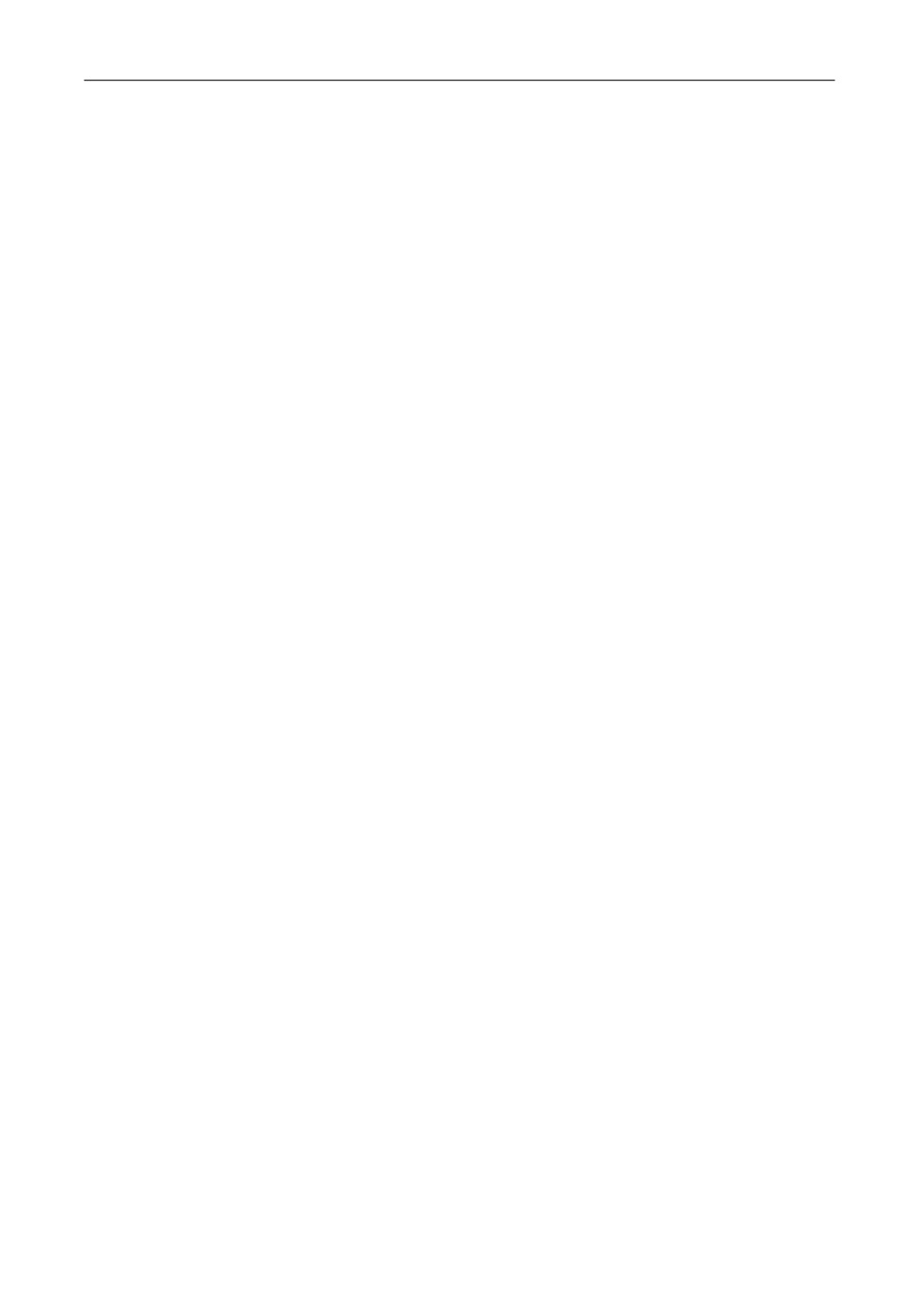ВЕЩИ НА ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТИ:
МЕЖДУ ТИЛЬЗИТОМ И СОВЕТСКОМ
Д.А. Радченко
Дарья Александровна Радченко
|
|
darradchenko@gmail.com | канд. культурологии, старший научный сотрудник Лабо-
ратории теоретической фольклористики | Школа актуальных гуманитарных иссле-
дований Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ (ШАГИ ИОН
РАНХиГС) (пр. Вернадского 82, стр. 1, Москва, 119571, Россия)
Ключевые слова
историческая память, граница, Калининградская область, материальность, наследие,
ностальгия, memory studies, border studies, эвокативные объекты
Аннотация
Город Советск Калининградской области - характерный пример сложного взаимодей-
ствия с “чужим” прошлым в вернакулярных нарративах жителей. Советчане живут в
окружении оставшегося после полного замещения населения в послевоенный период
материального наследия - от предметов быта до архитектурных объектов и ландшафта -
и выстраивают свою идентичность с учетом отношения к нему. Пользуясь теоретиче-
ской рамкой border studies и memory studies, мы показываем, как взаимодействуют и кон-
фликтуют в исторических нарративах горожан формы памяти, связанные с довоенным
Тильзитом и послевоенным Советском, как жители города в ходе рутинных или предпри-
нимательских практик, сопряженных с манипуляцией материальными объектами, пере-
мещаются между двумя темпоральными территориями, граница между которыми стано-
вится проницаемой и стимулирует создание гибридного пространства памяти.
Информация о финансовой поддержке
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государ-
ственного задания РАНХиГС
а центральной улице пограничного г. Советска Калининградской области
(бывшего Тильзита) расположен “памятник” трамваю. Туристы охотно
Н
фотографируются около него, а краеведы относятся к нему критически:
трамваи в Тильзите ходили лишь до 1944 г., но этот советский вагончик, произ-
веденный на Путиловском заводе в Ленинграде в 1933 г., не имеет с ними ниче-
го общего. Коммеморация повседневности довоенного Тильзита парадоксально
воплощена в советском транспортном объекте, ставшем одним из важных “мест
памяти” и точек притяжения Советска; два временных слоя города буквально
Статья поступила 14.08.2023 | Окончательный вариант принят к публикации 07.09.2023
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском // Эт-
EDN: MNWKCM
Radchenko, D.A. 2023. Veshchi na granitse territorii pamiati: mezhdu Til’zitom i Sovetskom
[Objects on the Memory Borders: Between Tilsit and Sovetsk]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 26-43.
© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
27
связаны призрачной трамвайной линией. На дистанцию между двумя ипостася-
ми одного города и на границу между ними, которую необходимо преодолеть,
намекает и название книги известного краеведа И.Я. Рутмана - “Из Советска -
в Тильзит: путешествие в историю города”1.
Назовем эту границу между Тильзитом и Советском “темпоральной”, а раз-
деляемые ею области “темпоральными территориями” или “территориями па-
мяти” (Lewis, Wawrzyniak 2022). Однако является ли “заграничное” прошлое
города “чужой страной”, как постулирует Дэвид Лоуэнталь (Лоуэнталь 2004)?
В статье мы обсудим, как материальные объекты и нарративы о них использу-
ются горожанами в конструировании территорий памяти и зададимся вопро-
сом: что, собственно, напоминают эвокативные объекты в “трофейном” городе?
Исследование, положенное в основу статьи, было осуществлено в рамках
долгосрочного проекта “Народная история России”2, целью которого является
сбор вернакулярных исторических текстов о городах и их картографирование
(Петров и др. 2019); в 2020-2021 гг. работа проводилась в пограничных обла-
стях России (Радченко 2021)3. Из-за небольшой продолжительности экспеди-
ции мы интервьюировали4 прежде всего (но не исключительно) людей, которые
активно интересуются историей города: старожилов, краеведов, работников
культуры, журналистов, коллекционеров и т.д.
Границы памяти
Множество современных антропологических исследований идентичности
построены на метафорике границы, пограничья или фронтира (Wilson 2009),
определяемого через понятие локальности (в широком смысле; необязательно
только в географическом). В исследованиях культурной памяти фронтиры пони-
маются в том числе как буферные зоны между сообществами, претендующими
на общие “места памяти” и вступающими из-за них в конфликт. Мы предлагаем
несколько иначе подойти к понятию мемориального пограничья - как к ситуации,
в которой коллективная память сообщества по тем или иным причинам адаптиру-
ет и включает в себя чуждые исторические нарративы и “места памяти”.
Наиболее очевидная из таких ситуаций - включение памяти мигрантов в
мнемонические структуры принимающего сообщества (Аникин 2020: 21). По-
литики адаптации мигрантов, как правило, выстраиваются таким образом, что
приехавшие вынуждены (в ходе интеграционных курсов, получения образова-
ния, участия в праздниках, повседневной коммуникации и т.д.) воспринимать
исторические нарративы местных жителей и примерять прошлое, пока не име-
ющее к ним отношения, к собственной жизни. До известной степени это рабо-
тает и в обратную сторону: например, мемориальные практики, посвященные
истории африканцев в Лондоне, призваны не только помочь бывшим жителям
колоний “почувствовать” релевантность прошлого страны для себя, но и инте-
грировать память мигрантов в нарративы остальных британцев (Pirker 2012: 4).
В этой статье мы обсудим предельный случай миграции, создающий “погра-
ничье памяти”: когда в результате присоединения территорий к другому госу-
дарству коренное население подвергается тотальной депортации, а на его место
приезжают люди, принадлежащие к совершенно другой культуре. В этой ситу-
ации соприкосновение мигрантов с принимающим сообществом минимально и
краткосрочно. В официальном мемориальном дискурсе такие мигранты часто
называются “первопоселенцами” или “колонистами”, как если бы они осваи-
ваили “ничью” территорию, однако в реальности они часто сталкиваются с ма-
териальными следами жизни предыдущего населения. Именно такая ситуация
сложилась и в Советске.
28
Этнографическое обозрение № 6, 2023
После завершения Великой Отечественной войны Тильзит был включен в
состав Калининградской области РСФСР и переименован в Советск, а прожи-
вавшие в городе немцы к 1948 г. были полностью переселены в советскую зону
оккупации Германии (Манкевич 2008: 58). Послевоенная политика дегермани-
зации Восточной Пруссии предполагала не только замещение населения, но и
символическую трансформацию территории: смену топонимов, разрушение па-
мятников и создание нового официального исторического нарратива, игнориро-
вавшего все происходившее здесь с XIII в. до 1945 г. (по расхожему выражению,
“от Адама до Потсдама здесь истории не было”; «Вот на фронтоне [моста Коро-
левы Луизы] <…> были четыре цифры: год постройки моста - 1907-й. “Что это
такое?! Убрать!” Ноль убрали, написали четверку. Получилось, мост построен
в 1947 году» (ПМИ: КСЯ).
После распада СССР наступил период расцвета интереса к довоенной
истории города и региона в целом, налаживались связи с тильзитскими зем-
лячествами, осуществлялся “ностальгический туризм”. Однако с 2000-х годов
официальная политика памяти снова изменилась, в ней переплелись, на первый
взгляд, две противоположные тенденции: “борьба с германизацией” (понимае-
мой прежде всего как угроза сепаратизма) и восстановление и сохранение не-
мецкого наследия как ключевого ресурса для привлечения внутренних туристов
в регион (Дементьев 2023: 146).
В результате колебаний меморативной политики сложились три группы
вернакулярных исторических нарративов о городе, каждой из которых соответ-
ствует свой тип памяти. Большинство горожан, говоря о прошлом Тильзита,
ограничивается почерпнутыми из научной, учебной литературы или официаль-
ного медиа-дискурса рассказами о Тильзитском мире (едва ли не единственное
событие в истории города, которое упоминалось в т.ч. в советском учебнике), о
Великой Отечественной войне и штурме города Красной армией (ср.: Марты-
нова 2022: 162). Эта память, обозначим ее как “память учебника”, нагружена
эмоциями благодаря своей связи с городской материальностью: «Очень трепет-
но, и это как бальзам на душу, читать часть “Войны и мира” про Тильзитский
мир. Ты все это можешь представить: и где это было, как это было, ты можешь
гулять по этим же улицам, где это было, ты можешь увидеть дом Александра I,
где он жил» (ПМИ: ЖДП).
Вторая группа исторических нарративов - рассказы о жизни Тильзита в
межвоенный период - зиждется на памяти, которую мы назовем “фантомной”:
несмотря на то что современные советчане не имеют никаких семейных, этни-
ческих или культурных связей с жителями Тильзита, к “воспоминаниям” о до-
военном прошлом города их побуждает пользование материальными объектами
прошлого.
К третьей группе нарративов могут быть отнесены как собственные воспо-
минания жителей, так и семейные истории их родственников или знакомых. На-
ряду с нарративами, укорененными в советской инфраструктуре города, советча-
не рассказывают о своей жизни в немецких домах и городской среде, о поисках
“кладов”, о пользовании предметами обихода, оставленными немцами при де-
портации. С этой группой воспоминаний соотносится “биографическая память”.
Таким образом, с одной стороны, каждый из артефактов - от здания до че-
репка немецкой тарелки - является эвокативным объектом, провоцирующим
личные эмоциональные воспоминания о жизни в послевоенном Советске.
С другой - эти же артефакты стимулируют актуализацию исторических нарра-
тивов о довоенной жизни Тильзита, почерпнутых из литературы или непосред-
ственно от свидетелей (или их потомков) событий этого периода. Эти нарративы
нередко аффективно нагружены и рутинно воспроизводятся в случае контакта
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
29
с материальными объектами прошлого (разумеется, это касается прежде всего
тех жителей, кто интересуется историей города): «Мы когда мимо этого здания
всегда проходим, - это вот это здание актера Армина Мюллер-Шталя - я всегда
друзьям говорю: “Вы представляете”, - и начинаю про него много раз расска-
зывать» (ПМИ: ЖДП).
Малгожата Лукьянов и Хлоя Велс называют “фантомной болью” эмоции,
которые переживаются в связи с памятью об утраченных территориях, которые
представляются бывшим жителям и их потомкам “законсервировавшимися” в
прошлом и хранящими “дух народа” (Łukianow, Wells 2022; также см.: Karhu
2017; Wells 2019). В нашем случае речь идет об обратном процессе - аффектив-
ном переживании прошлого, с которым послевоенное население региона ни-
как не связано. Более того, “фантомный” довоенный Тильзит до определенной
степени вытеснил в воспоминаниях советчан реальную историческую родину.
Люди, которые родились в Советске или были перевезены сюда детьми (в от-
личие от переселившихся уже взрослыми), в интервью активно рассказывали о
Тильзите, но крайне редко спонтанно переключались на семейные нарративы о
тех регионах, где жили их старшие родственники. Характерный пример - вы-
сказывание уроженки Советска, чьи родители приехали в город в 1960-х годах:
“Вот я очень жалею, что я тоже в детстве не интересовалась историей бабушки
и дедушки, откуда они приехали, кто мои, там, прабабушка, прадедушка. А сей-
час уже и спросить-то не у кого”(ПМИ: ЛНБ).
Память, заключенная в вещах
Отношения между людьми и социальными группами конструируются и
структурируются материальной средой - и наоборот, пространство становится
“местом” в социологическом понимании только за счет насыщенности историей
и смыслом (Pascual-de-Sans 2004; Massey 2005). Как постулирует Тим Ингольд,
“воспринимать ландшафт поэтому означает производить акт воспоминания не
столько в смысле воспроизводства внутреннего образа, хранящегося в сознании,
сколько чувственно взаимодействуя с ландшафтом, обремененным прошлым”
(Ingold 1993: 153). Города, по мысли исследователей, являются “естественны-
ми” хранилищами памяти о своем прошлом, вплетенной в их современную
структуру, а городские объекты, с одной стороны, становятся триггерами акту-
ализации исторических нарративов для тех, кто разделяет общее прошлое, а с
другой - позволяют физически прикоснуться к этой памяти внешним по отно-
шению к ней людям - туристам и мигрантам (Hayden 1997), протянуть руку че-
рез демаркационную линию, разделяющую настоящее и (фрагментированное)
прошлое, причем чем явственнее осознается темпоральная граница, тем важнее
оказываются материальные проводники через нее (Semmel 2000: 10-11).
Материальные объекты сами по себе обладают своего рода памятью, транс-
формативной по отношению к практикам настоящего. Описывая “память
вещи”, Дарья Димке и Николай Руденко определяют ее как способность струк-
турировать пространство определенным образом за счет конфликта между теми
материальными формами, среди которых и для которых вещь была создана, и
современными, не приспособленными для нее. В результате тактильного вза-
имодействия с объектами, несущими в себе “память вещи”, формируется та-
цитная (неявная) память (Димке, Руденко 2017), насыщенная эмоциональными
переживаниями (Colombetti, Krueger 2015; Heersmink 2021).
В ходе “дегерманизации” официального исторического нарратива в Кали-
нинградской области возникли определенные сложности: совершенно игнори-
ровать происходившее в регионе в XIII-XX вв. было невозможно, в том чис-
30
Этнографическое обозрение № 6, 2023
ле из-за сопротивления среды (Костяшов, Маттес 2003: 32). Сохранившиеся
архитектура, антропогенные ландшафты и бытовые предметы настаивали на
какой-то работе памяти по интерпретации их появления и взаимодействия с
ними послевоенного населения. Далее мы рассмотрим способы взаимодей-
ствия с “чуждой” городской материальностью в нарративах советчан.
“Чужой город”
Граница между “своим” настоящим и “чужим” прошлым осознавалась новым
населением с самого начала жизни в Тильзите/Советске. “Немецкость” материаль-
ных объектов трофейного города воспринималась большинством переселенцев
как чуждая5. Как полагает Ю. Костяшов, на яркость этого переживания повлиял
целый ряд факторов: Восточная Пруссия была плацдармом первого столкновения
Красной армии с германским населением, и сила ненависти к врагу здесь оказа-
лась максимальной; кроме того, благодаря прессе сложились стереотипы о мрач-
ной вражеской земле, вся материальность которой символизирует фашистский
режим и поэтому подлежит уничтожению (Костяшов, Маттес 2003).
Влияние этого официального нарратива оказалось весьма устойчивым.
Несколько раз нам встретился рассказ о том, что даже в последней четверти ХХ в.
старшие родственники людей, переселившихся в Советск, не хотели переезжать
к детям и внукам, потому что боялись умереть “на чужой земле”: “А с бабушкой
вообще, она, я думаю, что ее этот переезд сильно подломил. Хотя она уже была
сильно в возрасте, видите ли, она все сокрушалась, что я умру на той земле, от
рук которых погиб мой сын. <…> И вот для нее вот это, что она приехала сюда,
откуда пришло горе ей… ее здорово подломило” (ПМИ: ЖАБ).
Таким образом, информационный фон был задан еще до начала пересе-
ления, а затем, уже в ходе миграции, переселенцы физически столкнулись с
чуждыми для них укладом, рукотворным ландшафтом и предметами обихода
(Костяшов, Маттес 2003). Публикации в прессе поддерживали это пережива-
ние культурного конфликта с чуждой материальностью:
Видите, я наш украинский плетень построил, потому моей жинке негде было свои гле-
чики повесить. В шкафу, она говорит, они задыхаются, глечики-то… А немцы как жили?
Индивидуально. Он ни к кому не ходит, и к нему никто не ходит <…> Хоть сейчас же
разбирай дом и переноси его на другое место, рядом с сестрой и кумой Христиной, щоб
было кому новую кофту показать или у кого перцу одолжить6.
Руины немецких строений создавали и ощущение прямой угрозы: так, одна
из наших собеседниц сообщила, что в первые послевоенные годы бытовали
истории о том, что в “разбитках” орудуют людоеды.
Советчане рассказывают о том, что это восприятие чуждости города по-
влияло на его разрушение. Сразу после войны политика администрации была
направлена на уничтожение всего немецкого (на изгнание чуждого “прусско-
го духа” [Манюк 2019]) и на извлечение ресурсов для восстановления совет-
ских территорий (Гальцов, Сергеев 2009: 74). Сходная борьба с “вражеской”
материальностью развернулась, например, на территории Южного Сахалина,
присоединенного к СССР в 1945 г., где, после практически полной репатри-
ации граждан Японии, уничтожались японские здания и городская планиров-
ка, а сохранявшиеся постройки закрывались от взгляда “советской агитацией”
(Самарин 2009). Но снос объектов в Советске иногда инициировался самими пе-
реселенцами, причем уничтожались любые намеки на немецкое наследие: «Уди-
вительное дело, в [19]50-м году этот памятник [королеве Луизе] снесли. Когда
спрашивала у переселенцев, почему, собственно, уничтожили памятник, они
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
31
говорят: “Мы думали, что это была Екатерина”. Я говорю: “Но это же русская
царица”. “А она же, - говорят, - была немка, поэтому и снесли”» (ПМИ: ШАИ).
Современные жители региона объясняют такие действия не только чуждо-
стью немецкого наследия, но и ощущением временности своего пребывания
в регионе: часть переселенцев планировала переждать здесь тяжелые после-
военные годы, воспользовавшись льготами, а затем вернуться “на материк”
(Манкевич 2008). Кроме того, были распространены слухи о том, что Восточ-
ная Пруссия оккупирована временно и будет возвращена Германии: «Моя мама
рассказывала… что, когда она приезжала к своим родственникам в Смоленск,
они ей говорили… “Как вы там в немчуре живете? Когда вас там уже в нем-
чуру отдадут, и вы к нам назад вернетесь?” То есть до [19]80 года все думали,
что все-таки Калининградскую область отдадут Германии» (ПМИ: МКЛ)7. Это
ощущение не способствовало бережному отношению к вещам. По рассказам
жителей, переселенцы могли, получив квартиру в опустевшем немецком доме,
топить печь мебелью и паркетом, а затем, ободрав все до кирпича, просто пере-
селиться в другую (ПМИ: МКЛ). Кроме того, рассказы отражают культурный
шок переселенцев, перемещенных из сел в непонятный и чуждый им город и
стремившихся привести среду в соответствие со своими привычками и нужда-
ми: “Там в домах, в двух-, трехэтажных домах стояли ванны, там были канали-
зации. А наши, приехавшие, которые видели только, извините, дырочку в земле
со скворечником, куда в туалет ходили, в лучшем случае приехали и все это
выкинули” (ПМИ: ЛМА).
Современные советчане говорят о довоенном Тильзите как о богатом ак-
тивном городе с ухоженными домами, продуманными городской средой, транс-
портом и инфраструктурой, а о переселенцах - как о людях нередко бедных
и малообразованных, варварски относившихся к наследию, ценности которого
они не понимали, - разрушались не только чуждые исторические памятники,
но и любые признаки городской культуры. Этими нарративами сегодняшние
жители Советска парадоксально отделяют себя от переселенцев конца 1940-х
годов (нередко это их собственные предки или родственники) и устанавливают
свою связь с довоенным населением на основании общего признания ценности
и смысла материальности города.
Навигация между слоями памяти
Географические и политические границы иногда кажутся непреодолимыми,
но они проницаемы (Alvarez 2012; Troscenko 2016). Можно ли сказать то же
самое о темпоральных границах? Перемещение между временными слоями, -
в воображаемое прошлое (Макканелл 2016) или в поисках подлинного неизмен-
ного прошлого, конкурирующего с модерной повседневностью (Кормина 2019) -
как правило, описывается исследователями как туристическая практика. Одна-
ко такое перемещение может быть рутинным и не связанным с посещением
других городов.
Между собой горожане обычно именуют свой город Советском, но в обще-
нии с людьми за пределами города зачастую используют историческое назва-
ние - Тильзит. Историческое название в этом случае выполняет роль “бренда”,
отличающего Советск Калининградской области от других населенных пунктов
с тем же названием (городов в Кировской и Тульской областях) и подчеркива-
ющего его уникальность - чтобы “было мировое имя у нашей деревни” (ПМИ:
МКЛ): “А Советск, да, это вообще… рудиментарное название, за которым во-
обще лица города даже не угадывается никак” (ПМИ: ШАИ).
При этом многие из наших собеседников упоминали, что трансформация
32
Этнографическое обозрение № 6, 2023
города после войны привела к тому, что это “уже не Тильзит” (ПМИ: ЖАБ), они
“выросли в Советске” и не хотят терять память о десятилетиях истории города
и собственной биографии. Поэтому иногда предлагаются гибридные вариан-
ты, объединяющие две территории памяти воедино: “Тильзетск” (ПМИ: МИМ),
“Тильзит-Советск”:
Ну, видите, я выросла, в принципе, в Советске. Поэтому Тильзит - это как историческое
название, как для меня вот лично. А я его воспринимаю как город Советск. <…> Да, пусть
будет “Тильзит-Советск”, через тире можно. Но Советск должен быть. Полностью его
переименовать и забыть, что такой город был, я бы, конечно, была против (ПМИ: СВТ).
Немецкие объекты воспринимаются как “мост”, соединяющий с прошлым
города, а их утрата - как окончательный разрыв с этим прошлым, как утрата го-
родом своей идентичности: “Ну все же можно сломать, да? И тогда Тильзит уже
четко превратится в Советск, а там, где Советск, - там нет ничего” (ПМИ: ТСВ).
Поэтому для горожан важно сохранение обоих пластов памяти. Характерный
пример: возвращение Советску в 2000-х годах одного из его символов - скуль-
птуры лося, которая после войны была сначала перенесена с площади Ангер-
плац к парку, а затем перевезена из города в Калининградский зоопарк. Сегодня
лось установлен на улице Победы, поскольку на его историческом месте ныне
расположен мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной во-
йны, с Вечным огнем. В результате топография Советска изменилась - но не
вернулась к тильзитской, а нарративный ландшафт стал включать в том числе
тексты, в которых воспроизводятся и “фантомная” память о немецком прозви-
ще тильзитской скульптуры (“лось Густав”), и “биографические” мемораты о ее
возвращении в Советск.
Передвигаясь по городу, пользуясь теми или иными учреждениями, прожи-
вая в старых домах, советчане оказываются одновременно и жителями Совет-
ска, и жителями Тильзита. Однако материальные объекты нередко “молчат”:
их связь с прошлым не считывается пользователем (Attfield 2002: 53). Для того,
чтобы увидеть границу между Советском и Тильзитом, необходимо “археоло-
гическое зрение”: умение замечать и атрибутировать детали прошлого. Соглас-
но меткому высказыванию Барбары Киршенблатт-Гимблетт, “этнографические
объекты создают, а не находят” (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 3) - ритуальные и
бытовые предметы превращаются в “этнографические” (или археологические,
исторические и т.д.) благодаря исследователям, которые их определяют как та-
ковые, отделяют от среды, изучают. Точно так же жители города, постоянно
находящиеся в окружении тильзитских артефактов, не всегда осознают их как
исторические объекты, и только специальное когнитивное и эмоциональное
усилие позволяет “увидеть” прошлое и осознать его ценность:
Я помню, ко мне приехал там знакомый с Саратова, и он там: “Я сфотографирую этот
булыжник, эту брусчатку! Ааа, у вас тут все в брусчатке”. Думаю, ну, блин, она уже, вот
эта вот брусчатка, тошнит от нее. Она вся кривая - ноги ломать. <…> И буквально только
в прошлом году <…> я смотрю там, где я жил, дверь. Ничего себе! То есть я там прожил,
ну, скажем так, лет десять и не видел, чтобы дверь такая и вокруг двери там что-то такое
красивое (ПМИ: ТСВ).
В нарративах горожан, владеющих навыком археологического зрения, опи-
сывается не столько целостная “немецкая” городская среда, сколько знаковые
особенности отдельных зданий, связывающие их с досоветской историей (био-
графии жильцов, архитектурные детали и надписи на немецком языке), а также
преемственность их функций (школа, располагающаяся в здании гимназии; ка-
зармы, которые принадлежат военной части и т.п.). В результате темпоральная
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
33
граница между Тильзитом и Советском оказывается, во-первых, распределен-
ной и дискретной (в городе есть скопления довоенной застройки, но нет четкой
границы между “немецкими” и “советскими” районами), а во-вторых, проница-
емой: советчане пользуются той инфраструктурой, которая была создана тиль-
зитцами, и переживают ее как связь между прошлым и настоящим города.
И вот эти казармы пятиэтажные или там четырехэтажные немецкие… Вот у нас кубрик
был на втором этаже: когда открываешь окна, как называется, отвес, откос, откос сбо-
ку, и, значит, на нем гвоздиком нацарапано, ну там, допустим, “Ваня Псков ДМБ” там,
ну скажем, “[19]64, [19]68” и немецкие надписи: “Ганс, 1914”. Да, то есть людей дав-
ным-давно нет, а в казармах немцы вот эти служили, солдаты, и вот они там то же самое
теми же самыми гвоздиками какими-то царапали на этих кирпичах надписи (ПМИ: КС).
В вернакулярных нарративах жителей Советска постоянно встречаются упо-
минания о том, что инфраструктура города, по крайней мере отчасти, построена
“при немцах” и является более качественной и долговечной, чем современная:
“Я ну настолько вот просто иногда хожу и любуюсь вот на ту же брусчатку.
У немцев ровненько вот идет - крупная брусчатка, тут такая черненькая и пря-
мо в линию. Это ж как так надо сделать!” (ПМИ: ЛНБ). В городах, прошедших
через полное замещение населения, - не только в Советске, но и в Выборге
или Сортавале - послевоенные горожане начиная как минимум с 1990-х годов
склонны оценивать довоенное прошлое как “золотой век” города, точно так же,
как и перемещенные коренные жители и их потомки (Матвеева и др. 2021: 70).
Но если для вторых это следствие “работы” ностальгической памяти (Zerubavel
2003), то для первых - результат взаимодействия материальной среды и пред-
ставлений о “заграничном” качестве жизни.
Помимо довоенных застройки и инфраструктуры, новые жители региона
столкнулись с брошенными прежними горожанами, оставленными в домах или
закопанными во дворах и садах для сохранности предметами. В результате зем-
ля Советска в вернакулярных нарративах предстает своего рода месторождением
“ничейных” артефактов “чужого” прошлого - артефактов, которые необходимо
найти и извлечь из них выгоду; не случайно в рассказах жителей поиск немецких
вещей называется “промыслом” (Костяшов 2002). Моральное право обладания
трофейными объектами, понимаемое как компенсация страданий во время вой-
ны, подкрепляется ощущением почти природных “даров” (Sezneva 2007).
Однако это опасные дары. Ребекка Брайант полагает, что неотъемлемым
свойством объектов является “темпоральный динамизм”: они могут вносить
разные варианты ожидаемого будущего в настоящее (Bryant 2014: 684). По мне-
нию Брайант, присвоенные объекты обладают “ресурсом забвения”: связанные
с ними события забываются (или по крайней мере вытесняются из публичного
дискурса), но доступны сознанию и беспокоят. Отчасти именно это мы видим в
нашем материале. Обладание трофейными объектами как бы задает неопреде-
ленность будущего их владельцев - это и часто упоминаемая неустойчивость, и
возможность возвращения хозяев вещей, домов и земли. “Немцы рассчитывали
на скорое возвращение, закапывали в саду то, что не унесешь с собой - фарфо-
ровую посуду, изящные статуэтки. Еще не заросшие травой проплешины выда-
вали себя, и новые хозяева извлекали всю эту красоту и выставляли в немецких
же буфетах” (ПМИ: БЗС).
В течение нескольких послевоенных десятилетий находки воспринимались
как утилитарные “заграничные” вещи непривычного качества, а не как объек-
ты из прошлого: “Вся обстановка была на месте. В шкафах висели вечерние
платья, стояли туфли на высоких каблуках. Мы, девчушки, надевали на себя
эту кружевную роскошь и, наступая на длиннющий подол, стуча каблуками,
34
Этнографическое обозрение № 6, 2023
красовались перед немецкими же зеркалами” (ПМИ: БЗС). Тильзитские вещи
создавали среду обитания, но не рефлексию о ней. Только к середине ХХ в. это
ощущение трофейности утратилось, и находки превратились в объект памяти -
сначала на уровне частных коллекций и небольшого самодеятельного музея:
«Но был интересный, знаете, музей при кинотехникуме. <…> Когда дочь у меня
училась где-то пятый класс или шестой класс, они нашли какую-то вещичку.
Не помню какую, я-то ее не видела. Знаю, что Марина прибежала: “Мама!
Мы нашли вот такую-то вот такую…”. Что-то нашли. Отнесли в кинотехникум
Рутману» (ПМИ: СВТ). При этом коллекционеры собирали (и собирают) “немец-
кие” вещи не только в качестве объектов музеефикации, они включали эти объек-
ты в свою повседневность, как и переселенцы до них:
У него и мебель-то тоже была немецкая. Но уже сейчас, наверное, мало осталось, потому
что тоже обменивался там. Ну, вот знаете, ширпотреб вот этот… Вроде мебельная фабрика
сделает, в [19]60-е годы это считалось шиком - вот это трюмо, там, еще что-то это… А
он - раз! - на старую немецкую, которая сейчас имеет уже совсем другую ценность. А он
это понимал (ПМИ: ЛНБ).
Позднее интерес к материальным объектам как к наследию подхватывают бо-
лее широкие слои интеллигенции - тренд, характерный для этого периода совет-
ской истории. Так, собеседница, переехавшая в Советск в 1975 г., рассказывает:
“Вы знаете, когда я приехала, я ходила по подъездам и заглядывала, над дверями,
да, там стеклянные витражи, цветные. В окно. Какая красота!” (ПМИ: МИМ).
В конце 1980-х - начале 1990-х годов эти вещи впервые определяются как соб-
ственно антиквариат: объекты, которые можно не только искать, собирать и музе-
ефицировать, но и продавать.
Параллельно объекты трофейного региона становятся объектами семейной и
биографической памяти. Художник Вадим Храппа в 1980-е годы в открытом пись-
ме в газету определил калининградцев как людей, чья память неразрывно связана
с немецким наследием - от готических сооружений до “реликвий исчезнувшей
цивилизации” в виде осколков посуды и старых фотографий города (Дементьев
2014: 211-212). Точно так же рассказывают о своем взрослении в мире, наполнен-
ном немецкими вещами, и советчане: “У меня, я помню, в детстве еще на ново-
годнюю елку где-то штук шесть или семь было немецких игрушек. Это от немцев
оставались <…> Сервизы какие-то были, я помню, у нас, супницы, то есть все вот
это оставляли, а люди пользовались, потому что ничего не было” (ПМИ: КС).
Но кроме унаследованных трофеев у детей Советска были и свои собствен-
ные. Детство в городе, расположенном на темпоральной границе, подразумевает
“воспитание внимания” (Ingold 1993: 153), развитие умения ходить по заброшен-
ным зданиям, подвалам, чердакам, опознавать и обнаруживать там “немецкие”
артефакты: “Ну, представьте, тут целые улицы были немецких домов. Ну дети,
конечно, где? По немецким домам. <…> Где-то что-то находили… монеты, газе-
ты, все это” (ПМИ: КС); «У нас там на чердаках, в подвалах мы [в детстве] нахо-
дили автоматы ржавые <…> “Шмайсеры” эти, которые…» (ПМИ: МКЛ).
Пересечение темпоральной границы предполагает, во-первых, умение мыс-
ленно наносить свои знания о практиках довоенного (или военного) прошлого
на современный ландшафт: понимание принципов строительства жилья вку-
пе с представлением (пусть стереотипным) о законопослушности немцев и их
приверженности стандартизации помогает обнаружить схрон посуды, а знание
истории боевых действий - оружие.
И мы с внучкой всегда по лесу ходили, и я говорила, где копать. Немцы, если им скажут,
что у тебя должен дом быть 10 на 20, он будет 10 на 20 строить. Скажут, вот это твое
место - это твое место. И он уже знает, что он будет ставить дом лицом на… Так куда,
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
35
ну, например, только на запад. Они все так строят, у них так положено. <…> Ну вот она
нашла кирпича, кладку кирпичную, угол ищешь, да, ты уже можешь высчитать высоту
дома, длину дома, да, а где у них была кладовка, у них у всех в одном месте кладовка, ну
расположение одинаковое. Вот на этом месте примерный план (ПМИ: МИМ).
Во-вторых, развивается умение избегать рисков - как физических, так и со-
циальных: “И очень много находило детей патронов настоящих - потом про-
давали… и взрывались… это да, такое было” (ПМИ: ЛНБ). Опасность может
подстерегать в неблагоустроенных зонах, разрушенных домах, в реке. Но кроме
того, риск дополнительных проблем несут и сами находки - они условно делят-
ся на безопасные, в том числе “легальные” (предметы быта), и угрожающие,
или нелегальные (оружие, боеприпасы, предметы искусства и т.п.), а умение ла-
вировать в правовом поле, взаимодействуя с правоохранительными органами и
контролируя демонстрацию находок, оказывается таким же жизненно важным,
что и навык обращения с боеприпасами.
А я Вам не буду говорить [о находках], это… нельзя это. <…> Ну и много чего интерес-
ного было, но это все сейчас под статью попадает. Так что - про бутылочки лучше, про
пробочки (ПМИ: КС);
Ну подъехали [полицейские]: “А, так и так… вот, вы нарушаете закон…” <…> Почитал
им закон - там нет… а там четко расписано, где нельзя копать. То есть исторически
значимые места, там, в черте города, там, парки, кладбища, захоронения и все такое. Я
говорю: “Мы в поле копаем, этого тут нет”. Ну и все, они так раз-раз, что-то замялись
(ПМИ: анонимный собеседник).
Точно так же, как жителя географического приграничья, извлекающего
прибыль из возможности и главное умения постоянно и с минимальным ри-
ском пересекать границу между странами, перебрасывая через нее физические
объекты, исследователи называют “регионавтом” (Löfgren 2008; O’Dell 2017),
горожанина, живущего на стыке темпоральных территорий, можно назвать
“темпонавтом” (профессиональным проводником, перевозчиком, торговцем,
контрабандистом), когда перемещение между этими территориями становится
сколько-нибудь регулярным, рутинным и предполагает извлечение материаль-
ной или символической прибыли.
Практики отдельных темпонавтов не вызывают у жителей Советска возраже-
ний. Другое дело - темпонавтика как бизнес. В исторических нарративах горо-
жан активно воспроизводится сюжет о расхищении элементов городской среды:
Опять же, вот тоже обидно: в театре висела когда-то немецкая шикарная люстра, и тоже
потом забрали. Всё увозят <…> Они… нет, сейчас же много в Литву продается, в Европу.
Вот булыжник, вот это все <…> части мостовые. Они очень дорого стоят. Они же восста-
навливают. Это очень дорого прямо (ПМИ: ЛНБ);
Ооой! А сколько ее [брусчатку] воровали. <…> Она очень хорошая. На дачах, не на
дачах, а на особнячках, вот эти, там ее нет. Там у них все схвачено (ПМИ: ЖАБ).
Товаризация элементов городской среды, отсылающих к прошлому, - рас-
пространенная фобия постсоветских городов (Димке, Гребенщикова 2012). Как
постулирует Шерри Теркл, “объекты катализируют конструирование лично-
сти” (Turkle 2011: 9); здания, инфраструктура и иные публичные объекты, обла-
дающие свойством эвокации, катализируют формирование идентичности всего
города. В Советске, как и во многих других местах постсоветского простран-
ства, наследие создает проблемы: оно требует усилий по своему сохранению, а
может и прямо мешать жизни людей. Например, брусчатка вызывает шум, пор-
тит машины и обувь, ее трудно и некому ремонтировать. Однако она связывает
36
Этнографическое обозрение № 6, 2023
жителей с историческим прошлым в режиме “фантомной памяти”, и ее утрата
влечет за собой размывание идентичности города (причем современные заме-
ны брусчатки людьми не принимаются, поскольку разрушают аутентичность
визуальной и звуковой среды). Травмирующая память “чужого”, “трофейного”
города за десятилетия превратилась в собственную, пусть и фантомную.
До настоящего момента мы обсуждали довоенное наследие города так, как
обычно оно фигурирует в нарративах его жителей: “природный”, натурализо-
ванный ресурс бесхозной земли, который нужно уметь искать и распознавать,
чтобы извлекать из него прибыль. Однако означает ли это, что темпоральная
территория Тильзита в нарративах советчан полностью безлюдна?
В первые послевоенные годы отношение к местному населению варьиро-
вало от опасливого до агрессивного: бытовали слухи о нелегальной деятельно-
сти немцев (ПМИ: СВТ); сама немецкая культура скорее вызывала отторжение:
“Немецкий - это был язык фашистов, и мы <…> Да мы их ненавидели, этих
немцев, и язык нам не нужен их, гортанная такая речь” (ПМИ: БЗС). За два года,
предшествовавшие массовой депортации, у переселенцев начали складывать-
ся добрососедские отношения с немцами, и даже заключались межэтнические
браки. Однако этот период был очень кратким, а контакты контролировались и
ограничивались властью (Костяшов, Маттес 2003: 22). Это вкупе с дегермани-
зирующей политикой памяти способствовало вытеснению немцев не только из
страны, но и из памяти советчан и соответствующей темпоральной территории.
Вместе с тем материальное наследие намекало на былое существование лю-
дей, которые его создавали: так, в историческом дискурсе горожан закрепились
“воображаемые немцы”. Они (как позже и литовцы, уехавшие из Советска на
историческую родину в 1990-е годы) описываются в нарративах как люди, бо-
лее связанные с городом и заинтересованные в его сохранении и развитии, чем
современное население: “Когда немцев отсюда выселяли, то, вот, они, типа там,
вот, они знают, что за ними придут уже в два часа, там, им нужно выезжать,
но вот они все равно, нужно же в квартире убраться, в доме, в квартире. И они
наводили порядок, мыли шампунем какие-то там эти самые свои придомовые
территории” (ПМИ: ТСВ). На обеих границах - государственной и темпораль-
ной - советчане соседствуют и сравнивают себя с населением, которое сами
определяют как “коренное”8, причем это определение основано на отношении
к материальным объектам.
Перелом произошел в начале 1990-х годов, с развитием ностальгического
туризма. Немцы, некогда жившие здесь, или их потомки стали источником зна-
ний о прошлом Тильзита и ощущения эмоциональной ценности региона: “Тогда
и туристы поехали ностальгические, и мы начали открывать город вообще для
себя. <…> Сейчас можно легко все найти, нажать на кнопки. А тогда ничего
не было, и нам присылали источники из Германии, мы их переводили” (ПМИ:
ШАИ). В историческом дискурсе советчан появились уже не анонимные “нем-
цы”, а деятели довоенного прошлого и “земляки”, родившиеся в Тильзите и
приезжавшие в Советск.
Типичная практика такого туриста - посещение мест, связанных с его био-
графической памятью, и в определенном смысле воссоздание довоенных объ-
ектов, даже утраченных. Встречаясь с разочаровывающей реальностью совре-
менного Советска, непохожего на воображаемый, потерянный ими Тильзит,
немецкие туристы пытались восстановить разрушенные объекты и связи -
пусть лишь символически.
Один раз даже такой был случай: немец… приехали мы, вот, он достает из пакета палочки
какие-то, там, рамочки. Он… значит, палку такую соорудил из маленьких палочек, рамку
сделал и наклеил туда немецкие шильдики - название деревни. Я его сфотографировал
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
37
там. Так, карту достал - “100 метров от дороги у нас дом был”. 100 метров прошли -
нашли там кирпичи, черепицу нашли, вот, с клеймом. Взяли и опять сфотографировали.
Потому я ему предложил там пикник сделать, вот. Поел он там, покормил я его. Выпил,
расплакался, взял один кирпич, черепицу на память (ПМИ: ОАВ).
Общение с бывшими жителями Тильзита или их потомками в немалой сте-
пени способствовало развитию фантомной памяти современных советчан. Био-
графическая память уехавших об утраченном довоенном Тильзите - в форме
ностальгических меморатов, научной литературы или средств на восстановле-
ние городской среды - наполняла смыслом и эмоциональным переживанием
материальные объекты, среди которых проходила жизнь советчан. “Немые”
материальные объекты довоенного города, которые на протяжении многих лет
использовали сугубо функционально, приобретали тем самым эвокативные
свойства.
* * *
Жизнь современных советчан протекает в окружении материальных объек-
тов “чужого” прошлого и в контексте длительной истории его (не всегда без-
болезненной) апроприации. Постоянное соприкосновение с разными пластами
памяти оказывается своего рода пунктирным перемещением (осцилляцией)
между территориями памяти, которое реализуется в ходе как рутинных, так и
профессиональных практик, и становится ядром городской идентичности.
С одной стороны, темпоральное перемещение осуществляют практически
все горожане, обладающие навыком распознавания элементов прошлого в сво-
ей повседневности, но особенно - краеведы, в силу своих знаний способные к
навигации в пространстве не только существующих, но и утраченных объек-
тов Тильзита. Лоуэнталь связывает поиски археологических артефактов с от-
чуждением от истории семьи, корней и собственного детства: “Обнаружение
или владение артефактами, воплощающими древность, становятся замещением
собственного отторгаемого прошлого” (Lowenthal 1975: 40). Благодаря повсед-
невности эвокации, осуществляемой гибридной городской средой Советска/
Тильзита, фантомная память нередко замещает биографическую память семьи
(в ее довоенной части)9.
С другой стороны, более глубокое погружение в прошлое, связанное с поис-
ком тильзитских артефактов в земле, воде, в заброшенных строениях, сопряжено
с целым рядом рисков и одновременно выгод - как материальных, так и симво-
лических (напр., от обладания престижным артефактом или повышения своего
статуса в сообществе путем совершения рискованного действия). Многие жители
Советска в определенный период жизни не просто используют немецкие арте-
факты и инфраструктуру, но идут на риски, связанные с их добыванием.
Взаимодействие с немецкими артефактами наполнено разнообразными аф-
фективными переживаниями. В области фантомной памяти “чужие” предметы
актуализируют нарративы утраты довоенного “золотого века” города и руини-
рованности прошлого, ностальгию по людям, которых современные жители
Советска никогда не видели, и ситуациям, через которые никогда не проходили,
эстетические переживания, связанные с визуальным обликом “прирученных”
трофейных объектов - от супниц до витражей. Ощущение чуждости и опасно-
сти полностью исчезло из рассказов о немецком материальном прошлом города.
В области биографической памяти артефакты связаны как с чувством но-
стальгии по детству и юности в трофейном городе, так и с совершенно другими
эмоциями - радостью победы или горечью поражения в конкуренции за обла-
дание значимыми вещами, азартом участия в не всегда легальных, а иногда и
38
Этнографическое обозрение № 6, 2023
физически рискованных практиках поиска артефактов. При этом один и тот же
объект в нарративах одного и того же человека может описываться как эвокатив
совершенно разных, иногда диаметрально противоположных эмоций, связан-
ных с пересечением темпоральной границы.
Примечания
1 Рутман И.Я. Из Советска - в Тильзит: путешествие в историю города.
Клайпеда: Egles Leidykla, 2011.
3 На этом этапе реализации проекта осуществлялся сбор материала не толь-
ко в Советске, но и в Печорах (Псковская обл.), Сортавале (Республика Каре-
лия), Выборге (Ленинградская обл.), Новозыбкове (Брянская обл.), Архангель-
ске, Мурманске.
4 Собиратели: Дарья Радченко, Анна Козлова, Юлия Вакс.
5 Так же, как и в присоединенной Карелии (Матвеева и др. 2021: 72;
Гаврилова и др. 2021: 33; Большакова 2009; др.).
6 Эдель М. По дороге на Тильзит // Крокодил. 1946. № 36. С. 10.
7 Ср. с аналогичными наблюдениями в других городах Калининградской об-
ласти (Мартынова 2022: 163) и в Карелии (Большакова 2009).
8 В таком же положении оказалось современное население Карелии, “вспо-
минающее” о малоизвестных им финнах, проживавших на этой территории
(Мельникова 2005: 12).
9 Этот процесс замещения связан, разумеется, не только с влиянием среды,
но и с общей проблематичностью советской семейной памяти, ее утратой и со-
знательным подавлением в ходе репрессий, миграций, войн.
Благодарности
Автор выражает огромную признательность коллегам по экспедиции Анне
Козловой и Юлии Вакс, участникам исследования в Советске, а также Никите
Петрову, Эсте Матвеевой, Наталье Петровой, Павлу Куприянову и другим кол-
легам, участвовавшим в обсуждении этой работы.
Источники и материалы
ПМИ - Полевые материалы исследовательской группы. Советск, 2020 г. Инфор-
манты: БЗС - жен., 1946 г.р., пенсионерка; ВИВ - муж., 1970 г.р., журналист;
ЖАБ - муж., 1956 г.р., художник, краевед; ЖДП - жен., 2003 г.р., экскурсовод-
любитель; анонимный собеседник - муж., ок. 40 лет, малый предприни-
матель; КАС - муж., ок. 35 лет, архитектор; КС - муж., 1973 г.р., художник;
КСЯ - муж., 1949 г.р., краевед; ЛМА - жен., 1983 г.р., работник культуры;
ЛНБ - жен., 1979 г.р., сотрудник библиотеки; МИМ - жен., 1938 г.р., пенси-
онерка; МКЛ - муж., 40-50 лет, представитель мотоклуба “Легион”; ОАВ -
муж., ок. 70 лет, пенсионер; СВТ - жен., 1941 г.р., пенсионерка; ТСВ - муж.,
1974 г.р., предприниматель; ШАИ - жен., 1970 г.р., музейный работник,
активист.
Научная литература
Аникин Д.А. Проблематика фронтира в исследованиях культурной памяти // Жур-
нал фронтирных исследований. 2020. № 2 (18). С. 12-25.
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
39
Большакова Г.И. Со слов дедов и отцов: из истории заселения и освоения
Карельского перешейка советскими переселенцами в 1940-е годы // Обще-
ство. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. № 2. С. 35-43.
Гаврилова М.В., Петров Н.В., Матвеева Э.Г. Город в историях людей -
Выборг: избранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью.
М.: Неолит, 2021.
Гальцов В., Сергеев В. Проблема трансформации Восточной Пруссии в Калинин-
градскую область в документальных публикациях и научных исследованиях //
Acta historica universitatis Klaipedensis. 2009. № 18. С. 71-86.
Дементьев И.О. “Что я могу знать?”: формирование дискурсов о прошлом Кали-
нинградской области в советский период (конец 1940-х-1980-е годы) // Люди
и тексты. Исторический альманах. 2014. № 6. С. 175-218.
Дементьев И.О. Политика памяти в Калининградской области // Политика памя-
ти в России - региональное измерение: монография / Под ред. А.И. Миллера,
О.Ю. Малиновой, Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН РАН, 2023. С. 137-175.
Димке Д.В., Гребенщикова Т.Ю. К биографии одной вещи: мостовая как товар //
Социологические исследования. 2012. № 11. С. 52-61.
Димке Д.В., Руденко Н.И. Когда история дает сдачи: городские пространства и
память вещей // Этнографическое обозрение. 2017. № 6. С. 14-29.
Кормина Ж.С. Паломники: этнографические очерки православного номадизма.
М.: ИД ВШЭ, 2019.
Костяшов Ю.В. (ред.) Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: пер-
вые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах. СПб.:
Бельведер, 2002.
Костяшов Ю., Маттес Э. Изгнание прусского духа. Запрещенное воспомина-
ние. Калининград: Изд-во КГУ, 2003.
Лоуэнталь Д. Прошлое - чужая страна. СПб.: Владимир Даль, 2004.
Макканелл Д. Турист. Новая теория праздного класса. М.: Ад Маргинем Пресс,
2016.
Манкевич Д.В. Миграции населения СССР в первые послевоенные годы и засе-
ление Калининградской области (1945-1950 гг.) // Ретроспектива: всемирная
история глазами молодых исследователей. 2008. № 3. С. 54-68.
Манюк Е.С. Отношение переселенцев к городской среде в бывшей Восточной
Пруссии (Калининград и Клайпеда): социально-политический аспект // Вре-
мя Музея: сборник статей. Калининград: Страж Балтики, 2019. С. 376-388.
Мартынова М.Ю. (отв. ред.) На границе со странами Евросоюза: жизненные
стратегии молодежи Калининградской и Гродненской областей. М.: ИЭА
РАН, 2022.
Матвеева, Э.Г., Радченко Д.А., Петров Н.В. Город в историях людей - Сортавала: из-
бранные тексты и методические рекомендации по сбору интервью. М.: б.и., 2021.
Мельникова Е.А. (науч. ред.) Граница и люди. Воспоминания советских пересе-
ленцев Приладожской Карелии и Карельского перешейка. СПб.: Изд-во ЕУ
СПб., 2005.
Петров Н.В. и др. Истории людей в цифровом формате: методические рекоменда-
ции по сбору и визуализации интервью. М.: НЕОЛИТ, 2019.
Радченко Д.А. С видом на Евросоюз: практики пограничья в Советске // Фоль-
клор и антропология города. 2021. № IV (1-2). С. 14-39.
Самарин И.А. Город Южно-Сахалинск: в поисках центра // Вестник Сахалинско-
го музея. 2009. № 1. С. 188-201.
Alvarez R.R., Jr. The Mexican-US Border: The Making of an Anthropology of
Borderlands // Annual Review of Anthropology. 1995. No. 24 (1). P. 447-470.
Attfield J. Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. Oxford: Berg, 2002.
40
Этнографическое обозрение № 6, 2023
Bryant R. History’s Remainders: On Time and Objects after Conflict in Cyprus //
American Ethnologist. 2014. No. 41 (4). P. 681-697.
Colombetti G., Krueger J. Scaffoldings of the Affective Mind // Philosophical
Psychology. 2015. No. 28 (8). P. 1157-1176.
Hayden D. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Cambridge: MIT
Press, 1997.
Heersmink R. Varieties of Artifacts: Embodied, Perceptual, Cognitive, and Affective //
Topics in Cognitive Science. 2021. No. 13 (4). P. 573-596.
Ingold T. The Temporality of the Landscape // World Archaeology. 1993. No. 25 (2).
P. 152-174.
Karhu J. Memorialised and Imagined: Meanings of the Urban Space of Vyborg //
Новейшая история России. 2017. № 7 (20). С. 149-162.
Kirshenblatt-Gimblett B. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage.
Berkeley: University of California Press, 1998.
Lewis S., Wawrzyniak J. Introduction: Regions of Memory in Theory // Regions of
Memory / Eds. S. Lewis, J. Olick, J. Wawrzyniak, M. Pakier. Cham: Palgrave
Macmillan, 2022. P. 1-16.
Löfgren O. Regionauts: The Transformation of Cross-Border Regions in Scandinavia //
European Urban and Regional Studies. 2008. No. 15 (3). P. 195-209.
Lowenthal D. Past Time, Present Place: Landscape and Memory // Geographical
Review. 1975. Vol. 65. No. 1. P. 1-36.
Łukianow M., Wells C. Territorial Phantom Pains: Third-Generation
Postmemories of Territorial Changes
// Memory Studies.
doi.org/10.1177/17506980221126602
Massey D.B. For Space. L.: Sage, 2005.
O’Dell T. Regionauts, Mobility and the Boarder Work of Cultural Coalescence // Paper
presented at 33rd Nordic Ethnology and Folklore Conference, August 18-21, 2015.
Copenhagen University, Copenhagen, Denmark. Lund: Lund University, 2017.
Pascual-de-Sans À. Sense of Place and Migration Histories Idiotopy and Idiotope //
Area. 2004. No. 36 (4). P. 348-357.
Pirker E.U. Narrative Projections of a Black British History. Milton Park: Routledge,
2012.
Semmel S. Reading the Tangible Past: British Tourism, Collecting, and Memory after
Waterloo // Representations. 2000. No. 69. P. 9-37.
Sezneva O. “We have Never Been German”: The Economy of Digging in Russian
Kaliningrad // Practicing Culture / Eds. C. Calhoun, R. Sennett. Milton Park:
Routledge, 2007. P. 23-44.
Troscenko E. With a Border Fence in the Backyard: Materialization of the Border in
the Landscape and the Social Lives’ of Border People // Eurasian Borderlands:
Approaches to Social Inequality and Difference / Eds. T. Bringa, H. Toje. N.Y.:
Palgrave Macmillan, 2016. P. 87-106.
Turkle S. Introduction: The Things That Matter // Evocative Objects: Things We Think
With / Ed. S. Turkle. Cambridge: MIT Press, 2011. P. 3-11.
Wells C. Vyborg is Ours: The Collective Memory of a Lost Finnish City // Creating
the City. Identity, Memory and Participation. Conference Proceedings / Eds.
P. Brunnström, R. Claesson. Malmö: Malmö University, 2019. P. 194-215.
Wilson T.M. Experience, Memory and Locality in the Cultures of European Borders //
Anthropological Journal of European Cultures. 2009. No. 18 (1). P. 1-9.
Zerubavel E. Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago:
University of Chicago Press, 2003.
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
41
R e s e a r c h A r t i c l e
Radchenko, D.A. Objects on the Memory Borders: Between Tilsit and Sovetsk [Veshchi
na granitse territorii pamiati: mezhdu Til’zitom i Sovetskom]. Etnograficheskoe
obozrenie,
2023, no.
6, pp.
EDN: MNWKCM ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of
Ethnology and Anthropology RAS
Institute for Social Sciences Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (82 Vernadsky Avenue, Moscow, 119571, Russia)
Keywords
historical memory, border, border studies, Kaliningrad region, materiality, heritage,
nostalgy, memory studies, evocative objects
Abstract
Sovetsk, a city in the Kaliningrad region of Russia, is the typical case of a complex
interaction of locals with a “foreign” past. The dwellers of the city are living within
the environment of material heritage that remained after the total change of population
in World War II (including everyday objects, architecture and landscape) and are
building their identity through them. Drawing on the approaches of border studies
and memory studies, we show how regions of memory of pre-war Tilsit and post-war
Sovetsk interact and conflict in vernacular narratives of city dwellers, and how the
latter move between those regions in the course of manipulating evocative objects in
daily and business practices. The article is a part of the RANEPA state assignment
research program.
References
Alvarez, R.R., Jr. 1995. The Mexican-US Border: The Making of an Anthropology of
Borderlands. Annual Review of Anthropology 24 (1): 447-470.
Anikin, D.A. 2020. Problematika frontira v issledovaniiakh kulturnoi pamiati [The
Problematics of Frontier in Cultural Memory Studies]. Zhurnal frontirnykh
issledovanii 2 (18): 12-25.
Attfield, J. 2002. Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. Oxford: Berg.
Bolshakova, G.I. 2009. So slov dedov i ottsov: iz istorii zaseleniia i osvoeniia Karelskogo
peresheika sovetskimi pereselentsami v 1940-e gody [By Words of Forefathers and
Fathers: From the History of Colonization and Reclaiming Karelian Isthmus by
Soviet Settlers in 1940-s]. Obshestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) 2: 35-43.
Bryant, R. 2014. History’s Remainders: On Time and Objects after Conflict in Cyprus.
American Ethnologist 41 (4):681-697.
Colombetti, G., and J. Krueger. 2015. Scaffoldings of the Affective Mind. Philosophical
Psychology 28 (8): 1157-1176.
Dementev, I.O. 2014. “Chto ya mogu znat’?”: formirovanie diskursov o proshlom
Kaliningradskoi oblasti v sovetskii period (konets 1940-h-1980-e gody) [“What
Can I Know?”: Formation of Discourse about the Past of Kaliningrad Region during
Soviet Period (End 1940s-1980s)]. Liudi i teksty. Istoricheskii almanakh 6: 175-218.
Dementev, I.O. 2023. Politika pamiati v Kaliningradskoi oblasti [Politics of Memory in
Kaliningrad Region]. In Politika pamiati v Rossii - regional’noe izmerenie [Politics
of Memory in Russia - Regional Dimension], edited by A.I. Miller, O.Y. Malinova,
and D.V. Efremenko, 137-175. Moscow: INION RAN.
Dimke, D.V., and T.Y. Grebenshikova. 2012. K biografii odnoi veshchi: mostovaia kak
42
Этнографическое обозрение № 6, 2023
tovar [To the Biography of an Object: Pavement as Merchandise]. Sotsiologicheskie
issledovaniia 11: 52-61.
Dimke, D.V., and N.I. Rudenko. 2017. Kogda istoriia daet sdachi: gorodskie prostranstva
i pamiat’ veshchei [When History Strikes Back: Urban Spaces and Memory of
Things]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 14-29.
Galtsov, V., and V. Sergeev. 2009. Problema transformatsii Vostochnoi Prussii
v Kaliningradskuiu oblast’ v dokumentalnykh publikatsiyikh i nauchnykh
issledovaniiakh [Problem of Transformation of Eastern Prussia into Kaliningrad
Region in Documentary Publications and Academic Research]. Acta historica
universitatis Klaipedensis 18: 71-86.
Gavrilova, M.V., N.V. Petrov, and E.G. Matveeva. 2021. Gorod v istoriiakh liudei -
Vyborg: izbrannye teksty i metodicheskie rekomendatsii po sboru interv’iu [City in
People’s Stories - Vyborg: Selected Texts and Methodical Recommendations on
Interview Collection]. Moscow: Neolit.
Hayden, D. 1997. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History.
Cambridge: MIT Press.
Heersmink, R. 2021. Varieties of Artifacts: Embodied, Perceptual, Cognitive, and
Affective. Topics in Cognitive Science 13 (4): 573-596.
Ingold, T. 1993. The Temporality of the Landscape. World Archaeology 25 (2): 152-174.
Karhu, J. 2017. Memorialised and Imagined: Meanings of the Urban Space of Vyborg.
Noveishaia istoriia Rossii 7 (20): 149-162.
Kirshenblatt-Gimblett, B. 1998. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage.
Berkeley: University of California Press.
Kormina, Z.S. 2019. Palomniki: etnograficheskie ocherki pravoslavnogo nomadizma
[Pilgrims: Ethnographic Essays on Orthodox Nomadism]. Moscow: ID Vysshei
shkoly ekonomiki.
Kostyashov, Y.V., ed. 2002. Vostochnaia Prussiia glazami sovetskikh pereselentsev:
pervye gody Kaliningradskoi oblasti v vospominaniiakh i dokumentakh [Eastern
Prussia through the Eyes of Soviet Settlers: First Years of Kaliningrad Region in
Recollections and Documents]. St. Petersburg: Belveder.
Kostyashov, Y., and E. Mattes. 2003. Izgnanie prusskogo duha. Zapreshennoe vospominanie
[Expulsion of Prussian Spirit: Forbidden Recollection]. Kaliningrad: KGU.
Lewis, S., and J. Wawrzyniak. 2022. Introduction: Regions of Memory in Theory.
In Regions of Memory, edited by S. Lewis, J. Olick, J. Wawrzyniak, and M. Pakier,
1-16. Cham: Palgrave Macmillan.
Löfgren, O. 2008. Regionauts: The Transformation of Cross-Border Regions in
Scandinavia. European Urban and Regional Studies 15 (3): 195-209.
Lowenthal, D. 1975. Past Time, Present Place: Landscape and Memory. Geographical
Review 65 (1): 1-36.
Lowenthal, D. 2004. Proshloe - chuzhaia strana [Past is a Foreign Country].
St. Petersburg: Vladimir Dal’.
Łukianow, M., and C. Wells.
2022. Territorial Phantom Pains: Third-
Generation Postmemories of Territorial Changes. Memory Studies. https://
doi.org/10.1177/17506980221126602
Mankevich, D.V. 2008. Migratsii naseleniia SSSR v pervye poslevoennye gody i
zaselenie Kaliningradskoi oblasti (1945-1950 gg.) [Migrations of USSR Population
in First Post-War Period and Settlement in Kaliningrad Region]. Retrospektiva:
vsemirnaia istoriia glazami molodykh issledovatelei 3: 54-68.
Maniuk, E.S. 2019. Otnoshenie pereselentsev k gorodskoi srede v byvshei Vostochnoi Prussii
(Kaliningrad i Klaipeda: sotsial’no-politicheskii aspect [Migrants’ Attitude to Urban
Environment in Former East Prussia (Kaliningrad and Klaipeda): Social and Political
Aspects]. Vremia Museia [Museum Time], 376-388. Kaliningrad: Strazh Baltiki.
Радченко Д.А. Вещи на границе территорий памяти: между Тильзитом и Советском
43
Martynova, M.Y., ed. 2022. Na granitse so stranami Evrosoiuza: zhiznennye strategii
molodezhi Kaliningradskoi i Grodnenskoi oblastei [On the Border with European
Union Countries: Life Strategies of Young People in Kaliningrad and Grodno
Regions]. Moscow: IEA RAN.
Massey, D.B. 2005. For Space. London: Sage.
Matveeva, E.G., D.A. Radchenko, and N.V. Petrov. 2021. Gorod v istoriiakh liudei -
Sortavala: izbrannye teksty i metodicheskie rekomendatsii po sboru interviu [City
in People’s Stories - Sortavala: Selected Texts and Methodical Recommendations
on Interview Collection]. Moscow.
McCanell, D. 2016. Turist. Novaia teoriia prazdnogo klassa [The Tourist: A New
Theory of the Leisure Class]. Moscow: Ad Marginem Press.
Melnikova, E.A., ed. 2005. Granitsa i liudi. Vospominaniia sovetskikh pereselentsev
Priladozhskoi Karelii i Karel’skogo peresheika [Border and People: Recollection
of Soviet Settlers of Near-Ladoga Karelia and Karelian Isthmus]. St. Petersburg:
Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
O’Dell, T. 2017. Regionauts, Mobility and the Boarder Work of Cultural Coalescence.
In Paper presented at 33rd Nordic Ethnology and Folklore Conference, Copenhagen
University, Copenhagen, Denmark, August 18-21, 2015. Lund: Lund University.
Pascual-de-Sans, À. 2004. Sense of Place and Migration Histories Idiotopy and
Idiotope. Area 36 (4): 348-357.
Petrov, N.V., et al. 2019. Istorii liudei v tsifrovom formate: metodicheskie rekomendatsii
po sboru i vizualizatsii interviu [People’s Stories in Digital Format: Methodical
Recommendation on Collection and Visualization of Interviews]. Moscow: NEOLIT.
Pirker, E.U. 2012. Narrative Projections of a Black British History. Milton Park:
Routledge.
Radchenko, D.A. 2021. S vidom na Evrosoiuz: praktiki pogranich’ia v Sovetske
[A View on the EU: Border Practices in Sovetsk]. Fol’klor i antropologiia goroda
IV (1-2): 14-39.
Samarin, I.A. 2009. Gorod Yuzhno-Sahalinsk: v poiskakh tsentra [City of Uzhno-
Sakhalinsk: in Search of Centre]. Vestnik Sahalinskogo muzeia 1: 188-201.
Semmel, S. 2000. Reading the Tangible Past: British Tourism, Collecting, and Memory
after Waterloo. Representations 69: 9-37.
Sezneva, O. 2007. “We have Never been German”: The Economy of Digging in Russian
Kaliningrad. In Practicing Culture, edited by C. Calhoun and R. Sennett, 23-44.
Milton Park: Routledge.
Troscenko, E. 2016. With a Border Fence in the Backyard: Materialization of the Border
in the Landscape and the Social Lives’ of Border People. In Eurasian Borderlands:
Approaches to Social Inequality and Difference, edited by T. Bringa and H. Toje.
New York: Palgrave Macmillan.
Turkle, S. 2011. Introduction: The Things That Matter. In Evocative Objects: Things
We Think With, edited by S. Turkle, 3-11. Cambridge: MIT Press.
Wells, C. 2019. Vyborg is Ours: The Collective Memory of a Lost Finnish City.
In Creating the City. Identity, Memory and Participation. Conference Proceedings,
edited by P. Brunnström, and R. Claesson, 194-215. Malmö: Malmö University.
Wilson, T.M. 2009. Experience, Memory and Locality in the Cultures of European
Borders. Anthropological Journal of European Cultures 18 (1): 1-9.
Zerubavel, E. 2003. Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past.
Chicago: University of Chicago Press.