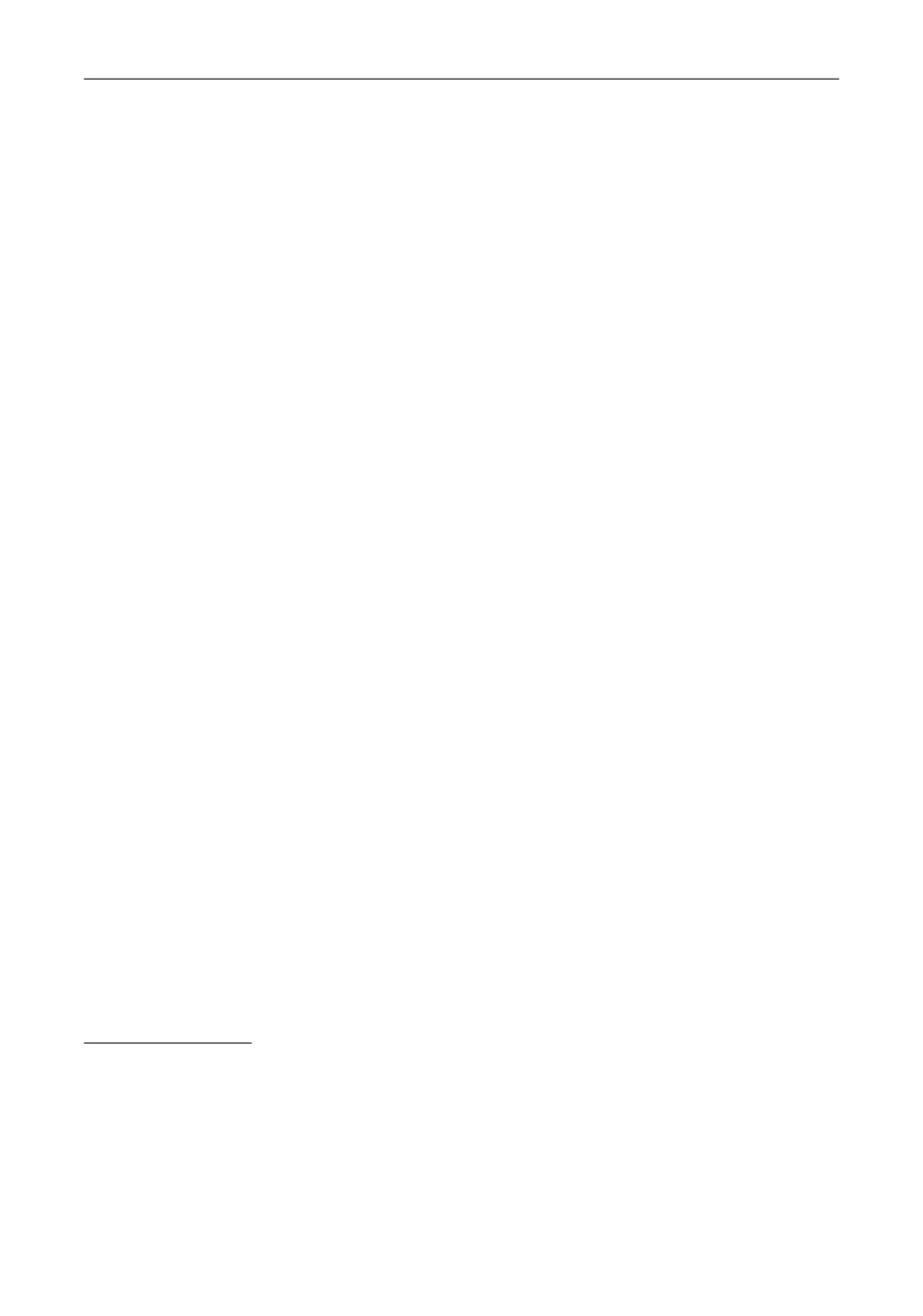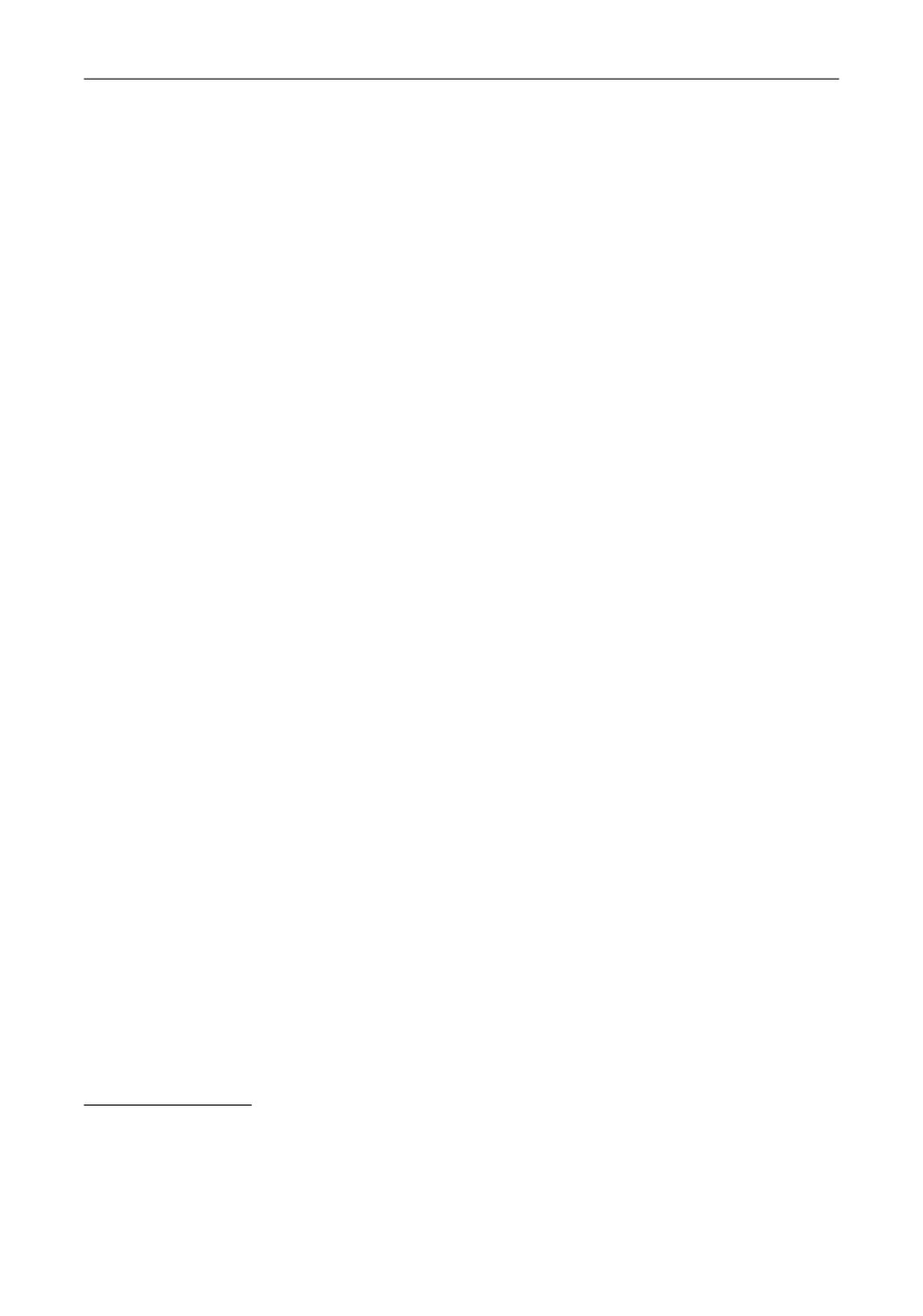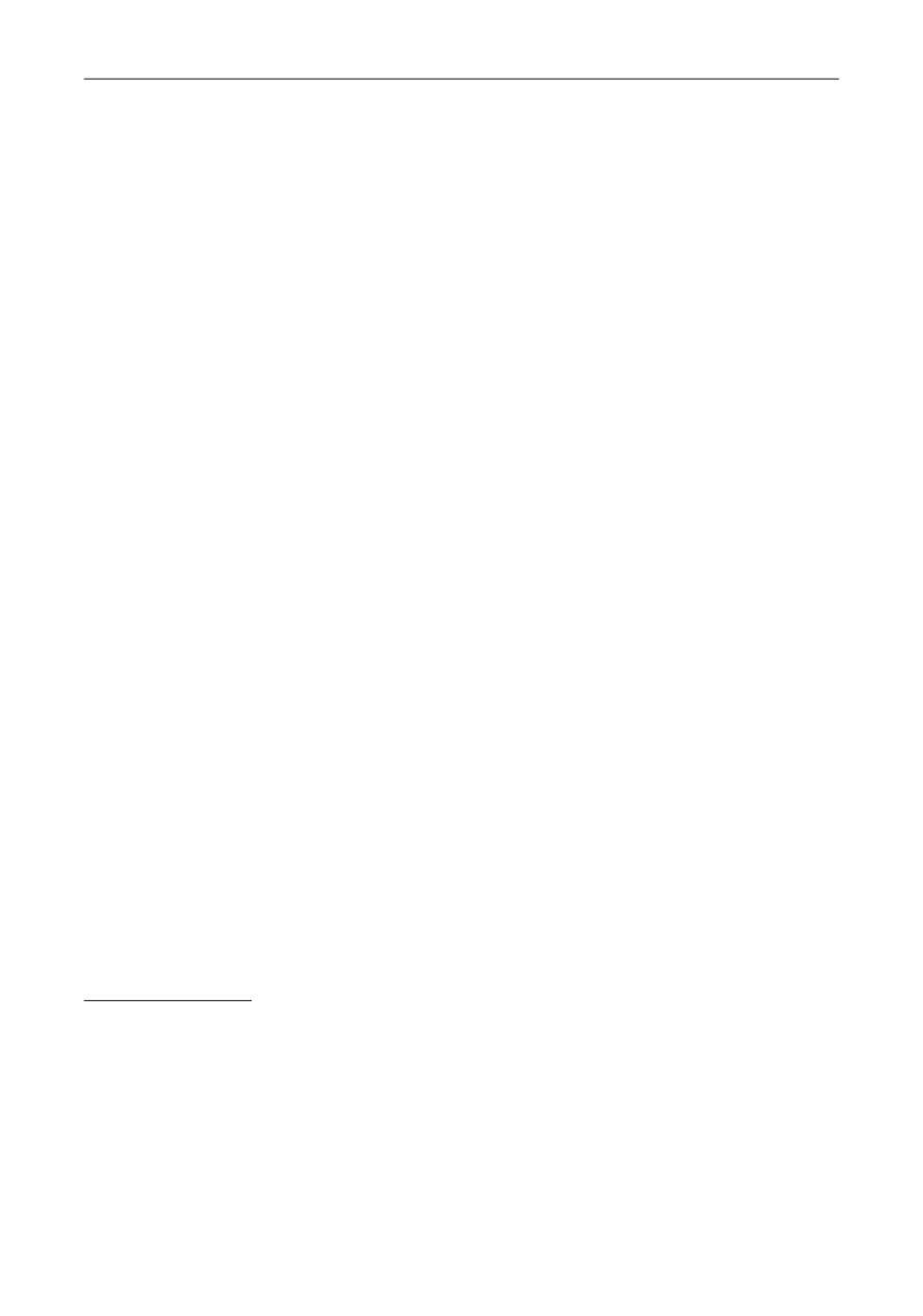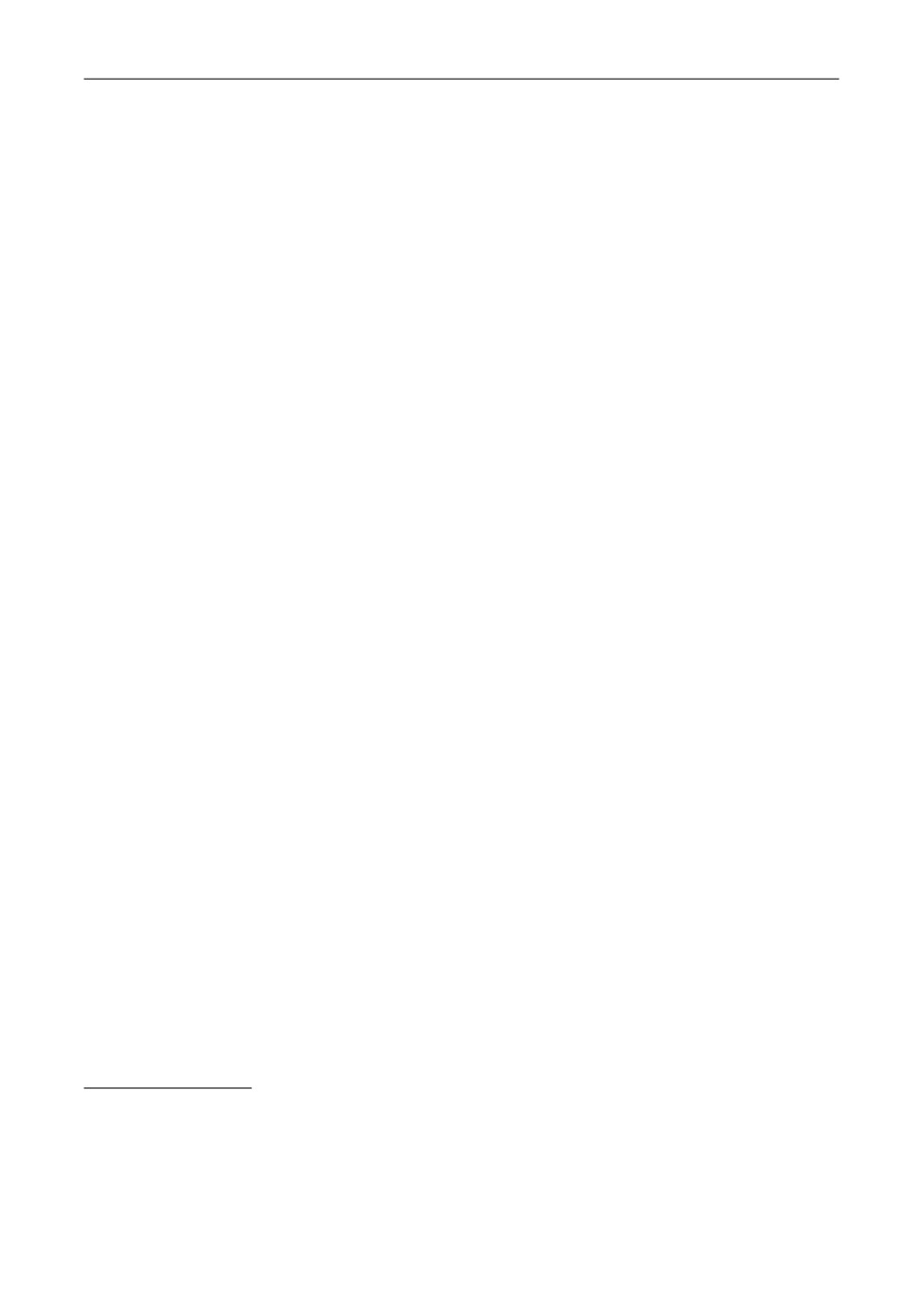ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
DOI: 10.31857/S0869049923010057
EDN: NPHGQN
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
PROBLEMS OF INTERNATIONAL SECURITY
Оригинальная статья / Original article
О нерешенном аспекте контроля над вооружениями:
противоракетная дилемма
© В.И. МИЗИН
Мизин Виктор Игоревич, Национальный исследовательский институт мировой экономики
и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (Москва, Россия),
vmizin@hotmail.com. ORCID: 0000-0001-7903-4454
Проблема противоракетной обороны остается одной из ключевых тем в дискуссии о контроле
над вооружениями на современном этапе. Без ее решения невозможно конструктивно продвигать-
ся по пути глобального снижения военной угрозы и взаимного сокращения потенциалов ядерных
вооружений России и США, России и НАТО, а также укреплять глобальную стратегическую ста-
бильность. Одновременно этот вопрос выступает серьезным раздражителем в отношениях России с
западными контрагентами - прежде всего с военно-политическим альянсом НАТО во главе с США.
Соответственно, взаимоприемлемые решения на данном направлении могли бы восстановить до-
верие между Россией и ее контрагентами, а также создали бы предпосылки для построения более
безопасного и стабильного мира. Предложен ряд конкретных первоочередных шагов, которые мо-
гут открыть пути к выходу из нынешнего переговорного тупика вокруг проблемы ПРО. Также они
способны привести к принятию прагматических мер, которые не нарушают национальную безопас-
ность ни одного из государств, в случае будущей нормализации отношений Москвы и Вашингтона.
Ключевые слова: баллистические ракеты, крылатые ракеты, противоракетная оборона, страте-
гическая стабильность, стратегические ядерные силы, ядерное оружие, Россия, США
Цитирование: Мизин В.И. (2023) О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная
дилемма // Общественные науки и современность. № 1. С. 68-82. DOI: 10.31857/S0869049923010057, EDN:
NPHGQN.
68
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
The Unsolved Issue of Arms Control:
Anti-missile Dilemma
© V. MIZIN
Victor I. Mizin, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of
the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vmizin@hotmail.com. ORCID: 0000-0001-7903-4454
Abstract. The issue of missile defense (ABM) remains one of the key topics of the discussion on arms
control at the present stage. Without its eventual forthcoming solution, it is impossible to further advance to-
wards reducing the military threat on a global scale, and mutual reduction of the nuclear weapons capabilities
of Russia and the United States, Russia and NATO, as well as to strengthen global strategic stability overall.
At the same time, this issue is a serious irritant in Russia’s relations with its Western counterparts, and, above
all, with the NATO military-political alliance led by the United States. Consequently, finding mutually accept-
able solutions in this area would help restore trust between Russia and her counterparts and create prerequi-
sites for moving towards a safer and more stable world. А number of tangible priority steps are suggested.
Those measures might create certain ways out of the current negotiating impasse over the missile defense is-
sue and help adopt pragmatic measures that would not violate the national security of any states. This process
might take place in case of normalization of relations between Moscow and Washington.
Keywords: ballistic missiles, cruise missiles, missile defense, strategic stability, strategic nuclear forc-
es, nuclear weapons, Russia, USA
Citation: Mizin V. (2023) The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma. Obschestvennye nauki i
sovremennost’, no. 1, pp. С. 68-82. DOI: 10.31857/S0869049923010057, EDN: NPHGQN.
Введение
Проблема противоракетной обороны (ПРО) остается «нерешаемой», несмотря на то,
что экспертное сообщество разработало множество предложений для ее комплексного
урегулирования, основанного на консенсусе. Они касаются не только каких-либо ограни-
чений - также сформулированы возможные меры повышения доверия и транспарентности
(обмен информацией о программах и запусках, посещение полигонов и т. п.). Казалось бы,
данный вопрос можно отложить до будущего восстановления так или иначе оформлен-
ного диалога с США. Однако рано или поздно им придется заниматься двум ключевым
игрокам сферы - России и США.
К сожалению, из-за политики Вашингтона в настоящее время такие договоры, как
СНВ-1, Договор по ПРО или ОСВ скорее остались ностальгическим воспоминанием о
«разрядке» и временах построения «общеевропейского дома от Атлантики до Владиво-
стока» в конце 1980-х гг. Безответственный и провоцирующий выход США в односто-
роннем порядке из ряда ключевых соглашений серьезно подорвал стратегическую ста-
бильность, как и взаимоотношения с Россией. Между тем паузы в процессе контроля
над вооружениями не только контрпродуктивны, но и опасны - особенно в сегодняшней
международной ситуации. Соответственно, необходимы новые, конструктивные реше-
ния этой проблемы. Когда-то подобный диалог с оппонентами был возможен и приносил
пользу даже в самые непростые этапы взаимоотношений. В западной политологии про-
блематике ПРО, как немаловажному аспекту контроля над вооружениями и глобальной
безопасности, посвящена уже целая библиотека исследований. Уделяют внимание данной
69
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
теме и ветераны американской дипломатии - послы Р. Готтемеллер, Л. Брукс, Дж. Тимби и
Дж. Гудби, хорошо знакомые российскому политологическому сообществу.
Дилемма, которой нет?
Некоторые неквалифицированные эксперты в России - особенно представители бло-
госферы - привычно раздувают угрозу американской глобальной системы ПРО, фактиче-
ски ставя под сомнение потенциал сдерживания России и компетентность Генерального
штаба ВС РФ. Между тем российские вооруженные силы сейчас обладают всеми воз-
можностями для надежной «нейтрализации» - преодоления нынешней и перспективной
американской системы ПРО в ответно-встречном ударе1.
По мнению ряда ведущих российских военных экспертов и практиков, размещение
противоракет в Польше и радара ПРО в Чехии не представляет опасности для российского
потенциала ядерного сдерживания2. Новая архитектура ПРО в Европе практически не
повлияет на потенциал России по отношению к США3, даже если в пусковые контейнеры
добавят «Томагавки». Учитывая их количество, угроза кардинально не изменится. Траек-
тории российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) из районов дисло-
кации соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пролегают через
Северный полюс или с запада на восток. В такой ситуации ЕвроПРО не способна создать
для них какие-либо проблемы. Противоракета SM-3 со скоростями полета 3,5-5,5 км/с
просто не сможет поразить российскую МБР со скоростью 7 км/с.
Перебазирование мобильных морских и наземных комплексов ПРО в США и на терри-
торию вокруг них с целью создать относительно плотную защиту от вероятного ответного
удара СЯС России тоже окажется неэффективной мерой. Данный процесс будет продол-
жительным, скрыть его будет невозможно, а в России такие действия будут рассматривать
как подготовку разоружающего удара.
В таком случае даже эти средства могут стать целью российского упреждающего удара
в зависимости от того, как оценят неизбежность угрозы нападения. Возможно использова-
ние средств противодействия сил Северного и Тихоокеанского флотов России - например,
твердотопливных БРПЛ «Булава-30». Как полагают российские эксперты, она должна
преодолевать все существующие перехватчики ПРО. Имея достаточно короткую актив-
ную траекторию полета, ракета способна маневрировать и выпускать ложные цели, пре-
одолевая таким образом противоракетную оборону4.
Неопределенность относительно будущего курса США в вопросе ПРО продолжит бес-
покоить российских военных, даже если нынешняя система пока реально не представляет
серьезной проблемы.
Тем не менее, и Россия развивает свою программу противоракетной обороны.
Она включает в себя модернизированную систему А-135 для защиты Москвы от нападе-
ния стратегических баллистических ракет до уровня А-235; системы С-300, С-350 и С-400
1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию. Kremlin.ru. 1 марта
2 Соломонов Ю., Интервью с генеральным конструктором академиком Ю.С. Соломоновым. Военно-косми-
ческая оборона. 2011. № 6. С. 85-86.
3 Есин В., Савостьянов Е. ЕвроПРО без мифов и политики. Независимое военное обозрение. 13.04.2013.
4 Карпов А. Основа триады: какими возможностями обладают новейшие российские подлодки проек-
bulava-harakteristiki).
70
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
для перехвата баллистических ракет меньшей дальности, самолетов и крылатых ракет;
ракетные перехватчики С-500, способные, по оценке экспертов и официальных лиц, пере-
хватывать боеголовки баллистических ракет средней дальности и, возможно, боеголовки
стратегических баллистических ракет и гиперзвуковых систем5.
Также успешно завершены испытания комплекса С-550 для поражения уже гиперзву-
ковых и космических целей6, он поставлен на боевое дежурство. Противоракетная система
России с ее наземным и космическим эшелонами будет полностью завершена после раз-
вертывания Единой космической системы обнаружения и боевого управления.
Понятна озабоченность, которую выражает российская сторона в связи с возможно-
стью захода кораблей ПРО США Aegis в Балтийское, Норвежское, Баренцево или Охот-
ское моря, а также в Берингов пролив, где пролегают границы России и расположены
ее ракетные базы. Москва также обеспокоена потенциальным повышением технических
характеристик американских кинетических перехватчиков. На вооружение США могут
встать противоракеты со скоростью более 4-4,5 км/сек и даже 5 км/с. Планируется, что
такую скорость будет развивать SМ-3 IIА, который после многих неудач смог перехватить
муляж МБР на испытаниях в ноябре 2020 г. Тогда противоракеты SМ-3IIА и SМ-6 тео-
ретически смогут перехватывать на активном участке траектории российские (главным
образом жидкостные) БРПЛ старых систем, которые стартуют из прибрежных акваторий.
Однако следует учитывать, что противоракета SM-6 способна перехватывать крылатые
ракеты (КР) различной дальности и баллистические ракеты (БР) малой дальности только
на конечном участке, так как она «работает» лишь в пределах атмосферы. Чтобы она пере-
хватила БРПЛ на разгонном участке, кораблю с системой Aegis нужно находиться в непо-
средственной близости от места пуска БРПЛ. Вероятность такого случая крайне мала,
так как надводные корабли ВМФ РФ и так не допускают иностранные корабли близко к
району патрулирования ПЛАРБ (если не считать покрытые льдом участки океана).
Массированное развертывание кораблей ПРО Aegis вблизи баз ВМФ РФ и районов
патрулирования российских подводных ракетоносцев, как и сосредоточение мобильных
авиационных систем ПРО из Европы, теоретически создает риск для России. В случае
обострения кризиса до предвоенной фазы при угрожающем приближении морских плат-
форм с противоракетами к северным рубежам России (например, с побережья Норвегии)
такие районы для упреждающего удара придется «закрывать» флотскими противокора-
бельными ракетными и торпедными комплексами, а также авиацией ВМФ Балтийского и
Северного флотов. Естественно, подобный удар возможен лишь после соответствующего
предупреждения.
У России уже имеется свое противоракетное, противоспутниковое оружие: испытан-
ная в ноябре 2021 г. и широко разрекламированная система «Нудоль». Зона гарантирован-
ного поражения целей новым комплексом может превысить 600 км по дальности и 200 км
по высоте. Российское противоспутниковое оружие включает как оружие космического
базирования, вроде наследников «ИС-МУ», так и наземные системы типа «Нудоль» и
«советский задел» в виде ракетно-космических комплексов «Наряд-ВН» и «Наряд-ВР» на
базе МБР УР-100НУТТХ7, системы поражения низкоорбитальных КА в составе самолета
5 С-500. Теперь Россия сможет победить США в ядерной войне. Discred.ru. 01.03.2019. (https://www.discred.
ru/2019/03/01/s-500-teper-rossiya-smozhet-pobedit-ssha-v-yadernoj-vojne/).
6 Новая ЗРС С-550 заступила на боевое дежурство. Военное обозрение. 29 декабря 2021. (https://topwar.
ru/190694-novaja-zrs-s-550-zastupila-na-boevoe-dezhurstvo.html).
7 Оружие на новых физических принципах»: мифы и реальность. Часть 2: Русский космос. Однако. 12.04.2012.
71
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
МиГ-31Д и противоспутниковой ракетной системы 79М6 30П6 комплекса «Контакт»8.
Данное вооружение в состоянии уничтожать пока только информационные системы кос-
мического компонента ПРО США, такие как спутники программы Hypersonic and Ballistic
Tracking Space Sensor (HBTSS). Они также способны нейтрализовать угрозы от систем
разведки, обнаружения и целеуказания американской ПРО.
Реальная уязвимость для стратегических ядерных арсеналов России может возник-
нуть только в случае резкого и внезапного массированного наращивания наземных, мор-
ских, воздушных и космических средств ПРО США для перехвата средств ответного
удара. Однако даже при таком катастрофическом сценарии сохранится гонка вооружений,
а плотность эволюционировавшей американской глобальной системы ПРО резко возрас-
тет. При таком положении дел ответный удар Стратегических ядерных сил (СЯС) России
неминуемо нанесет неприемлемый ущерб силам США.
Принимая во внимание контрмеры со стороны России, а также высокую эффектив-
ность средств преодоления ПРО на современных российских МБР и БРПЛ, мощность
вероятного ответного удара СЯС РФ по территории как США, так и Европы гарантирует
стратегическую стабильность, поскольку ущерб для НАТО или США в таком случае
стал бы неприемлемым.
В условиях затяжного кризиса вокруг «украинского вопроса» многие эксперты в США
уже практически не скрывают, что европейский сегмент американской системы ПРО в
Польше и Румынии потенциально направлен на то, чтобы парировать якобы возросшие
угрозы со стороны России. Однако официально Вашингтон и Брюссель все еще связы-
вают системы Aegis Ashore в Румынии и Польше с ракетной угрозой от Ирана. Лишь Вар-
шава и Бухарест устно указывают, что данные системы ПРО должны отражать «угрозу»
со стороны РФ.
На сегодня США и Россия имеют довольно «примитивные» системы противоракетной
обороны. Пока ни одной из сторон не удалось разработать, успешно испытать и запу-
стить надежную систему обороны территории страны от МБР9. Очевидно, что российские
военные склонны преувеличивать возможности американской ПРО, а их американские
коллеги - потенциал ее совершенствования.
С другой стороны, не стоит завышать и возможности российских средств по прорыву
американской системы ПРО. В то же время, согласно заявлениям американской стороны,
их противоракетная инфраструктура не рассчитана на прикрытие от российского вероят-
ного ответного удара и не способна на это. Соответственно, в такой ситуации все новые
российские средства просто излишни и являются ненужной тратой средств.
Сейчас в СМИ и в военных кругах рекламируют развертываемую тяжелую МБР «Сар-
мат» РС-28 - изделие ГРЦ им. Макеева, которое должно заменить детище украинского
«Южмаша» РС-36МС «Сатана» (в России «Воевода»). Испытания РС-28 начались в
2017 г. Однако ряд экспертов в России сомневаются в ее способности нанести гарантиро-
ванный удар по США. Они также указывают на то, что пусковые шахты РС-28 уязвимы
для ракет США типа «Minuteman-III» и особенно БРПЛ «Trident-2». Проводились испы-
тания системы артиллерийской защиты шахтных пусковых установок (ШПУ) «Мозырь»,
однако она не вошла в широкую эксплуатацию. Именно поэтому Россия в 1990-е гг. пере-
9 Postol T. A. How Strategic Anti-Missile Defense of the United States Could be Made to Work. Princeton.
Defense%20of%20the%20%20United%20States%20Could%20be%20Made%20to%20Work%20(Postol,%20
March27,2011).pdf).
72
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
шла к мобильным пусковым установкам. Также некоторые ведущие эксперты не уверены в
заявленной10 способности «Сармата» атаковать США через Южный полярный круг (тяже-
лые МБР РС-20В имели эту способность с 1970-х гг.). Как полагает ведущий российский
исследователь проблем СНВ и ПРО академик А. Арбатов, внезапный удар с южных ази-
мутов нанести не получится: запуск ракет замечают спутники, а подлет - радары, которые
на морских платформах можно отбуксировать к южным берегам США11. «Такая траекто-
рия предполагает вывод ракеты на околоземную орбиту, а потом спуск с нее… Подлетное
время будет намного дольше, чем через Северный полярный круг, а боевая нагрузка и
точность, видимо, меньше» [Арбатов 2018]. Он также указывает, что система «Сармат»
не соответствует двум принципам стратегической стабильности, согласованным с США
в 1990 г.: уменьшение концентрации боезарядов на стратегических носителях и оказание
предпочтения средствам с повышенной выживаемостью. Понятно, что тяжелые МБР в
шахтах «притягивают» на себя первый удар вероятного противника.
По мнению бывшего начальника Главного штаба РВСН генерал-полковника В. Есина,
Россия вполне могла согласиться на следующую конфигурацию стратегических сил:
порядка 400-500 развернутых стратегических носителей с 1 тыс. развернутых боезаря-
дов [Аничкина, Есин 2015]. Однако часть экспертов с учетом ситуации осторожно предла-
гают более умеренные оценки - сокращения на 10-15% по сравнению с потолками ДСНВ
2010 г. По данному плану боезапас уменьшится до 1,3-1,4 тыс. единиц стратегических
ядерных боезарядов (но и этот показатель пока из области фантазий).
Факты свидетельствуют о том, что ядерный стратегический потенциал России надежно
обеспечивает ее безопасность, и его продолжат наращивать и совершенствовать. Нецеле-
сообразно бесконечно беспокоить население России угрозой внезапного американского
ядерного удара, что делают сегодня немало «экспертов» и СМИ. Такое нагнетание ситуа-
ции вызывает лишь ироническую реакцию специалистов и создает ситуацию психологи-
ческой панической неопределенности.
Сценарий внезапного выбивания (под прикрытием любой американской структуры
ПРО) российских СЯС неядерными высокоточными средствами также опровергают
многие отечественные эксперты. Атака ракетами с обычными боевым частями (БЧ) не
гарантирует полное поражение всех стратегически важных объектов12. Детальные рас-
четы военных исследователей показывают, что невозможно нанести одновременный удар
высокоточными крылатыми ракетами даже по одному конкретному позиционному рай-
ону РВСН в европейской части страны. При анализе учитывались размер и геометрия
целей, оценка необходимого количества крылатых ракет для надежного поражения одного
высокозащищенного объекта (ШПУ) или командного пункта в зависимости от точности
попадания. Для поражения только одной ШПУ с вероятностью 90% при круговом веро-
ятном отклонении (КВО) крылатых ракет на 5 м и без мер противодействия потребова-
лось бы 14, а при КВО, равном 8 м - 35 крылатых ракет. В то же время следует помнить
о тех позиционных районах РВСН, достичь которых крылатые ракеты просто не могут.
В любом случае, поразить все российские мобильные МБР и подводные стратегические
ракетоносцы невозможно.
10 Разработчик ракеты «Сармат» отметил невозможность ее перехвата средствами противника. Интерфакс.
12 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. По-быстрому не получится. Военно-промышленный курьер. 21 октя-
73
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
Что касается угрозы появления новых средств средней дальности США, по словам
генерал-полковника В.И. Есина, «если американцы все-таки начнут разворачивать свои
ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного
удара и перейти к доктрине упреждающего удара»13.
Еще в своем выступлении на церемонии открытия Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2015» 17 июня 2015 г. президент РФ В.В. Путин подчеркнул:
«В этом году к ядерным силам добавится более 40 новых межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, которые смогут преодолеть любые, даже самые технически продвинутые
системы противоракетной обороны»14.
Таким образом, в позиции Москвы по проблеме ПРО присутствует определенный
«дуализм». В официальном дискурсе ее по-прежнему позиционируют как стратегическую
угрозу. В то же время заявлено, что эту угрозу полностью нейтрализуют новые стратеги-
ческие системы ее преодоления и сдерживания потенциального агрессора. России следует
определить свой политический подход к опасности, исходящей от системы противоракет-
ной обороны США. Необходимо структурировать весь традиционный нарратив по про-
блематике ПРО.
Очевидно, что в политико-дипломатическом контексте в России будут продолжать
утверждать о неснятой опасности американской системы ПРО. Между тем такая позиция
противоречит последним политическим заявлениям - в том числе и на высшем уровне - о
том, что любая американская противоракетная инфраструктура не обеспечивает выполне-
ния поставленных перед нею задач. Данную тему широко обсуждают в российской экс-
пертной среде. Сложно не согласиться со словами академика А. Арбатова о том, что «от
американских ядерных ударов никакая ВКО Россию не защитит (как не прикроет никакая
ПРО Америку от российского ракетно-ядерного оружия)»15.
Вполне предсказуемо, что российская сторона потребует связать отсутствие ограни-
чений по противоракетной обороне с отказом от требований США включить в лимиты
будущего договора (вместо ДСНВ 2010 г.) нестратегическое ядерное оружие. В опубли-
кованной администрацией экс-президента США Д. Трампа «Национальной стратегии в
области безопасности» (National Security Strategy, 2017 г.) говорится, что «усиленная про-
тиворакетная оборона не предназначена для подрыва стратегической стабильности или
нарушения давних стратегических отношений с Россией или Китаем»16. Однако в «Обзоре
противоракетной обороны» за 2019 г. (Missile Defense Review) зафиксировано, что «таким
образом Соединенные Штаты не примут никаких ограничений на разработку или развер-
тывание средств противоракетной обороны, необходимых для защиты территории страны
от угроз от государств-изгоев и региональных ракетных угроз (rogue state and regional
missile threats)»17.
13 Генерал-полковник Виктор Есин: «Если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе,
нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждаю-
14 Путин В.В. Выступление на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Ар-
15 Арбатов А. Внешняя политика и национальная оборона России. Военно-промышленный курьер. № 12.
16 National Security Strategy of the United States of America. The White House. December 2017. (https://
trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf).
Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf).
74
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
Ключевым можно считать тот момент, что в «Обзоре противоракетной обороны» за
2019 г. предлагается значительно расширить миссии и сферы применения противора-
кетной обороны США. Теперь они включают в себя ответ не только на баллистические
ракеты, но и на другие типы ракетных угроз, такие как региональные крылатые и гиперз-
вуковые системы. В докладе также подчеркнута актуальность использования космоса и
новых технологий для перехвата ракеты на этапе разгона.
С точки зрения кризисной стабильности наиболее тревожит то, что «Обзор ПРО»
предполагает более агрессивную защиту от «сложных российских и китайских межкон-
тинентальных баллистических ракетных угроз США», а также намекает на будущее раз-
витие космических перехватчиков для противоракетной обороны. В тот момент документ
подтвердил следующие планы администрации Д. Трампа: уничтожение ракет противника
еще перед запуском («prior-to-launch»); вооружение беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) боевыми лазерами для поражения ракет дальнего радиуса действия на разгон-
ном этапе; испытание ракетного перехватчика SM-3 Block IIA против межконтиненталь-
ных баллистических ракет (произошло в ноябре 2020 г.); расширение наземных систем
противоракетной обороны на Аляске и в Калифорнии с 44 до 64 перехватчиков Ground
Based Interceptors (GBI) к 2023 г.; разработка новых заатмосферных перехватчиков NGI
для системы GMD. Агентство противоракетной обороны США (MDA) также предло-
жило создать перехватчик следующего поколения на замену экзоатмосферного боевого
блока EKV для перехватчика GBI. Особую озабоченность у российских военных вызывает
система SM-6 (RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM), которая явля-
ется не только средством ПВО/ПРО среднего радиуса действия, но и многоцелевой плат-
формой для ударов по надводным и наземным целям, а также перехвата маневрирующих
гиперзвуковых целей.
В «Обзоре противоракетной обороны США» администрации Дж. Байдена, теперь
включенном в общую «Стратегию национальной обороны»18, расширена роль противора-
кетной обороны. В нее добавили защиту от крылатых и гиперзвуковых ракет, а также дро-
нов (БПЛА). Рассмотрены угрозы от космопланов и частично- или много-орбитальных
космических систем (space planes and fractional or multiple-orbital delivery systems). Тем не
менее, несекретная версия «Обзора», опубликованная Пентагоном 27 октября 2022 г., не
содержит ни серьезных новшеств стратегии США, ни ясного плана выполнения задач на
данном направлении военного строительства. Количество программ и проектов по факту
сильно сокращено по сравнению с «Обзором ПРО-2019». От многих из них отказались в
2019-2021 гг.
«Обзор ПРО-2019» в целом сохранил преемственность с курсом администрации Б.
Обамы. Тем не менее, в документе от 2010 г. не указывали на обстановку соперничества
великих держав. Последняя появилась в документах не раньше публикации Националь-
ной оборонной стратегии США от 2018 г. «Обзор ПРО-2010» концентрировался на регио-
нальных угрозах от ракетных арсеналов КНДР, Ирана и (впервые) Китая, но не на страте-
гических ядерных силах РФ и КНР. Для защиты от СЯС РФ и КНР все еще должно было
служить ядерное сдерживание, а чиновники администрации Обамы (в отличие от адми-
нистрации Трампа) постоянно подчеркивали, что распространение ПРО США на СЯС
РФ будет слишком затратным, низкоэффективным и стратегически дестабилизирующим.
Последний «Обзор» занимает 12 страниц (по сравнению со 108 страницами в предыду-
щем) в 80-страничной несекретной версии «Стратегии национальной обороны США».
18 Fact Sheet: 2022 National Defense Strategy. U.S. Department of Defense. March 2022. (https://media.defense.
gov/2022/Mar/28/2002964702/-1/-1/1/NDS-FACT-SHEET.PDF).
75
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
В нее также впервые включили «Обзор ядерной стратегии» и «Обзор противоракетной
обороны». В прошлом основные руководящие документы публиковали отдельно. В дан-
ном «Обзоре» продолжена линия администрации Д. Трампа, которая, в свою очередь, в
значительной мере сохранила преемственность с документом времен правления прези-
дента Б. Обамы. Администрация Д. Трампа, как отмечалось выше, впервые включила уси-
лия в области противоракетной обороны в контекст конкуренции великих держав - как
противовес стратегическим силам России и Китая - а не только межконтинентальным
баллистическим ракетам Северной Кореи и Ирана.
Важно, что в «Обзоре» от 2022 г. признали взаимосвязь стратегических наступатель-
ных и оборонительных вооружений. Данное положение следует рассматривать в контек-
сте отсутствия в «Обзоре ПРО-2022» тезиса о недопустимости каких-либо ограничений
на развертывание американских систем региональной и национальной ПРО. Последний
присутствовал в «Обзорах» от 2010 и 2019 гг.
Итак, «Обзор противоракетной обороны» 2022 г. в значительной степени продолжает
традиционную политику США в области противоракетной обороны. Он мало проясняет
реальную стратегию администрации по модернизации и корректировке ПРО страны для
противодействия рассматриваемым угрозам. Документ подтверждает, что национальная
противоракетная оборона выступает главным приоритетом противоракетной обороны
Америки. США продолжат модернизировать и расширять наземную систему противора-
кетной и противовоздушной обороны (GMD), которая была создана для защиты террито-
рии США якобы только от северокорейских и иранских ракет.
Пентагон с 2019 г. (когда была закрыта программа RKV) продолжает программу соз-
дания 20 перехватчиков следующего поколения (NGI) для защиты от ограниченных ядер-
ных ударов. Контракты на ее разработку заключены с компаниями Northrop Grumman и
Lockheed Martin19. В будущем NGI могут полностью заменить нынешние 44 наземных
перехватчика Ground Based Interceptors.
Параллельно США активно разрабатывают новую «наступательную» систему - МБР
LGM-35 Sentinel. Ее называют средством стратегического сдерживания наземного базиро-
вания GBSD, которое заменит давно устаревшие ракеты Minuteman III.
В целом России и США для совместного решения по ПРО потребовалось бы согла-
совать абсолютно новое понимание стратегической стабильности. Однако данную тему
предстоит раскрыть в отдельных новых исследованиях. Такая работа уже была начата
некоторое время назад [Мизин 2020].
Идеи возможного урегулирования проблемы «классической» ПРО
Ситуация в области контроля над вооружениями сейчас, по понятным причинам,
близка к катастрофической. Однако в российской традиции «исторического оптимизма»
можно представить, что «окно возможностей» для продолжения диалога по ПРО и осно-
вам стратегической стабильности не закрыто до конца даже в период кардинальной транс-
формации всей системы международных отношений. Нельзя не согласиться с российским
экспертом по вопросам военной безопасности, бывшим заместителем министра обороны,
послом РФ в США А.И. Антоновым. Он отмечает, что «при любых обстоятельствах поли-
тико-дипломатические усилия в этой сфере необходимо продолжать. Как представляется,
российской и американской сторонам принадлежит особая роль в развитии сотрудниче-
news/2022/11/hypersonic-missiles-evolution-or-revolution/).
76
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
ства в области ПРО между Россией и НАТО, и полное использование имеющегося потен-
циала может послужить основой для продвижения этого сотрудничества по конструктив-
ному руслу» [Антонов 2012].
Сегодня диалог заморожен по причине глубокого кризиса в отношениях с США и
НАТО. Однако очевидно, что его продолжение в рамках широкого обмена мнениями, кото-
рый был прерван из-за начала острой фазы украинского кризиса, могло бы обеспечить
сторонам большую предсказуемость в вопросах перспектив дальнейшего развития соот-
ветствующих систем.
Тот факт, что Россия обрела, как заявлено на высшем уровне, способность преодоле-
вать любую американскую систему ПРО, означает, что при наличии политической воли
вполне реально вернуться к поиску долгожданного компромисса. Уже имеется солидный
задел «блоков» для возможного соглашения в продолжение Нового Договора по СНВ
2010 г., где также решается и вопрос о ПРО20 [Wilkening 2000; Ivanov 2000]. На настоящий
момент накоплена целая библиотека инициатив по данному вопросу21.
Огромное преимущество для России представляет единство позиции со стратегиче-
ским союзником - Китаем22. Идет совместная работа по преодолению негативного вли-
яния американской ПРО на их возможности обеспечить оборону и стратегическую ста-
бильность в целом.
Понятно, что «нового Договора по ПРО» уже не будет. Однако при нормализации гео-
политической ситуации, проявлении политической воли, развитии внутриполитической
ситуации в США и стабилизации отношений стороны могли бы прийти к некоему компро-
миссному варианту в обозримом будущем.
Речь идет, прежде всего, о таких инициативах, как меры доверия и контроля: взаимные
посещения объектов, совместные центры предупреждения о ракетных угрозах, учения сил
ПРО РФ и НАТО и т. д. Было бы полезно принять определенные меры транспарентности
и разграничить системы противоракетной обороны: например, разделить стратегическую
оборону и МБР с БРПЛ взаимоприемлемыми параметрами.
Опорой в таком случае могли бы стать показатели, описанные в нератифицированном
договоре СНВ-III от 1997 г., однако стоит добавить к ним разрешение для региональных
систем ПРО защищать от баллистических и крылатых ракет средней и малой дальности.
Несмотря на то, что переговоры в 1997 г. были безрезультатными, на них удалось дого-
вориться о важных направляющих документах, которые сегодня почти забыты. Так, были
согласованы технические параметры ограничения систем ПРО. Среди них заявление о
низкоскоростных ракетах-перехватчиках TMD и критериях испытаний, соблюдение кото-
рых гарантирует, что такие системы не будут считаться стратегическими. Договоренность
о высокоскоростных ракетах-перехватчиках TMD исключает из системы перехватчики
TMD космического базирования и определяет критерии испытаний. Выработано также
20 В России Новый (Пражский) Договор по СНВ 2010 г. называют «СНВ-3». Другой договор с таким на-
званием (СНВ-3, START-III) был выработан еще в 1997 г., но не ратифицирован. The START III Framework at a
21 Podvig P. Missile Defense and the Myth of Strategic Stability. Prepared for the workshop on “Stability Issues in
a New Nuclear Order”, Berlin 15-16. December 2014; Missile Defense and U.S.-China Strategic Stability. Carnegie-
china-strategic-stability-event-7157).
22 «…Мы же не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники. Мы не работаем про-
тив кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров», - заявил президент России В. Путин на
пленарном заседании ПМЭФ в 2019 г. Пленарное заседание Петербургского международного экономического
77
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
соглашение о мерах укрепления доверия, в рамках которого участникам договора помо-
гали бы оценивать эксплуатационные возможности их систем противоракетной обороны
на ТВД. Также предусматривались уведомления об их испытаниях.
К сожалению, эти прорывные идеи не спасли Договор по ПРО, несмотря на интерес-
ные наработки по мерам доверия и транспарентности, которые разработали в Группе по
обороне и космосу на переговорах по СНВ в Женеве в 1991 г., где участвовал и автор.
К ним относились такие процедуры, как уведомления о программах или посещение лабо-
раторий и испытательных полигонов. Еще с 1983 г. Москва и Вашингтон рассматривали
целый ряд предложений в области урегулирования проблемы ПРО. В настоящее время
никто не вспоминает компромиссные идеи, выдвинутые Москвой в период усилий по
«спасению» Договора по ПРО начала 1990-х гг.
5 октября 1991 г. на переговорах в Женеве президент СССР М.С. Горбачев, удивив
собственных дипломатов, выразил готовность обсудить новые предложения США по нея-
дерной ПРО. Как позже разъясняла советская делегация, данное заявление не означало
согласия Москвы с тезисами Вашингтона. СССР и США не удалось к началу 1990-х гг.
достичь компромисса о развертывании так называемой «Глобальной системы защиты от
ограниченных ударов» (ГЗОУ) (она предусматривала вывод на орбиту по меньшей мере
2000 малогабаритных спутников слежения с перехватчиками Brilliant Pebbles). Россий-
ский ответ на эту инициативу - развертывание «Глобальной системы защиты» (ГСЗ) -
также не был претворен в жизнь. Москва отвергла предложения о развертывании 6 новых
позиционных районов с 150 перехватчиками и снятии запретов на разработки и испыта-
ния противоракетных систем. Российским представителям пришлось практически дезаву-
ировать заявление Президента Б.Н. Ельцина по вопросам разоружения от 19 января 1992 г.
В нем он предложил вместо СОИ совместно работать над «переориентированной» проти-
воракетной программой - Глобальной системой защиты (ГЗОУ), своего рода аналогом и
ответом американской программе GPALS (1991 г.) президента Дж. Буша-мл. Было подчер-
кнуто, что российский лидер имел в виду лишь сотрудничество по разработке совместных
систем предупреждения о ракетном нападении и обмена данными.
Диалог двух стран в 2010-2013 гг. по проблематике ПРО - как на официальном
уровне, так и в экспертной среде - не дал результатов. В апреле 2013 г. Вашингтон пред-
ложил заключить исполнительное соглашение о транспарентности противоракетной
обороны. В соответствии с ним стороны ежегодно обменивались бы данными о ключе-
вых компонентах своих ракетных систем и прогнозируемых масштабах развертывания
на каждый год в течение десяти лет. Москва не отреагировала на предложение. Ведущий
американский эксперт по контролю над вооружениями доктор Б. Робертс (в то время -
заместитель помощника министра обороны по ядерному оружию и противоракетной
обороне) тогда неоднократно задавал вопрос о том, почему Москва упорно отказыва-
ется участвовать в демонстрациях испытаний американской противоракетной обороны
и не сотрудничает в других мерах укрепления доверия и транспарентности (посеще-
ние стартовых площадок и др.). Однако следует учитывать, что республиканцы в Кон-
грессе сделали невозможным выполнение такого соглашения. Они внесли поправку в
закон «Об оборонных расходах на 2014 фин. г.», которая запрещала передавать России
информацию о ПРО США кроме как в рамках договора, ратифицированного двумя тре-
тями Сената, или иного соглашения, одобренного более чем половиной обеих палат
Конгресса. Так республиканцам удалось упредить заключение подобного соглашения
администрацией Б. Обамы. В сложившихся условиях ответ Москвы никакого смысла и
не имел. С тех пор данную поправку постоянно продлевали, а в законе «Об оборонных
расходах на 2023 фин. г.» ее сделали бессрочной.
78
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
В случае нормализации отношений Москве и Вашингтону в первую очередь надо будет
установить согласованные ограничения на соответствующие системы вооружений и дого-
вориться о гарантиях в отношении потенциалов и географических районов размещения
своих стратегических перехватчиков.
В будущем Россия и США могли бы достичь специального политического соглашения,
которое не подлежало бы ратификации Конгрессом США.
Такой договор мог бы включать следующие меры:
• регулярный обмен планами по проблематике ПРО; обязательные уведомления об
изменениях в развитии программ и развертывании систем ПРО/ПВО сторон на ближай-
шие 10-15 лет, их количества и географической локации в целях обеспечения транспа-
рентности и предсказуемости;
• адаптация и конкретизация, а также (по мере возможности) юридическое закрепле-
ние некоторых мер контроля и верификации по Договору по ПРО в политически обязыва-
ющем соглашении по мерам укрепления доверия;
• создание консультативного органа, который служил бы форумом для решения и
урегулирования вопросов соблюдения договоренностей;
• согласование квот и процедур регулярных посещений мест испытаний и развертыва-
ния стратегических перехватчиков, а также связанных с ними радиолокационных станций;
• согласование количественного предела в 100 противоракет и пусковых установок
у каждой из сторон (по Договору по ПРО с поправками в Протокол от 1974 г.);
• изучение теоретической возможности согласовать и включить в согласованные
ограничения по стратегическим системам доставки стратегические оборонительные
потенциалы (в соотношении, например, 2 к 1 наступательных к оборонительным);
• технические разграничения между стратегическими (ограниченными соглаше-
нием) противоракетами и перехватчиками театра военных действий (неограниченными)23;
• согласование посещений испытательных полигонов по ПРО;
• по меньшей мере 10-летний мораторий на развертывание перехватчиков космиче-
ского базирования.
Что касается политически обязывающей договоренности об ограничении националь-
ной противоракетной обороны показателем в 100 перехватчиков24, то пока вряд ли воз-
можно включить этот предел в общий потолок для боезарядов по будущей договоренности
по договору СНВ. Сохранение ста перехватчиков ПРО снизит количество стратегических
средств доставки до 400, если общий потолок будет согласован на уровне 500 боеголовок.
С целью конкретизации таких договоренностей стороны могли бы учредить совмест-
ный Центр обмена данными систем раннего предупреждения (ЦОД, JDEC)25. Центр
в режиме реального времени предоставлял бы сторонам данные радаров в России и в
Европе, а также информацию с датчиков космического базирования. Результатом такого
23 Соответствующие переговоры велись в 1997 г. в рамках разработки СНВ-3 в соответствии с «Согласован-
ными заявлениями о Меморандуме о договоренности от 26 сентября 1997 г. в связи с Договором между Союзом
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противора-
кетной обороны от 26 мая 1972 года», которые были конструктивной отправной точки для будущих переговоров.
24 Thielmann G. Incorporating Missile Defense in Strategic Arms Control. Deep Cuts Issue Brief #12. October
25 МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОЕДИНЕН-
НЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ЦЕНТРА ОБМЕНА ДАННЫМИ ОТ СИ-
СТЕМ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯМИ О ПУСКАХ РАКЕТ. Министерство ино-
странных дел Российской Федерации.
disarmament/1585949/).
79
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
обмена станет создание интегрированной системы обнаружения и слежения за ракет-
ными угрозами и космическими объектами, представляющими опасность для Европы.
В первую очередь речь идет об отслеживании наземных комплексов МБР. В 2000 г. РФ и
США попытались организовать такую работу операторов СПРН, открыв в Москве Центр
обмена данными от систем предупреждения о ракетном нападении. Предполагалось, что
американский и российский персонал будут работать совместно, используя национальные
аппаратные средства, которые в будущем могли бы быть сопряжены.
Американские специалисты Дж. Льюис и Ф. фон Хиппель критиковали возможные
подходы к ограничению развертывания противоракетной обороны [Lewis, von Hippel
2018]. К ним относятся технические возможности России и Китая для преодоления ПРО:
замена перехватчиков противоракетной обороны ядерными боеголовками баллистиче-
ских ракет, американо-российское сотрудничество по ПРО, повышение прозрачности
программ ПРО Соединенных Штатов, сдержанность в развертывании противоракетной
обороны, а также снижение ракетных угроз от Северной Кореи или Ирана через диплома-
тические инициативы.
Прежде всего, России важно добиться отказа от размещения систем ПРО в непосред-
ственной близости от ее территории: на Балтике, в Арктике и Северо-Восточной Азии.
Нельзя игнорировать и фактор собственно европейской системы ПРО европейских членов
НАТО26.
К сожалению, пока отсутствуют какие-либо сигналы о том, что после истечения срока
действия Нового (Пражского) Договора по СНВ в 2026 г. переговоры по дальнейшим
соглашениям двух сторон возобновятся. Возможно лишь то, что Россия и США заключат
соглашение о продолжении имплементации его лимитов при сохранении режима вери-
фикации. Скорее всего в нынешней ситуации и это крайне проблематично27. К более глу-
боким сокращениям стратегических вооружений Москва сейчас не готова. Тем не менее,
желательно было бы возобновить хотя бы инспекции по ДСНВ 2010 г.
Заключение
И Россия, и США укрепляют свои программы противоракетной обороны, а также раз-
вертывают новые стратегические наступательные системы. Тем не менее, противоракет-
ные потенциалы обеих стран пока ограничены. В сложившейся ситуации остается акту-
альным вопрос о том, сохранится ли у сторон интерес к контролю над вооружениями - в
том числе и для сдерживания программ противоракетной обороны. Пока такая эвентуаль-
ность не исключена, но довольно маловероятна в ближайшем будущем.
В конечном счете могут быть предприняты и более далеко идущие шаги [Gottemoeller
2020; Brooks 2020]. Главное, как представляется, чтобы стороны были настроены на прак-
тический результат по урегулированию проблемы ПРО. Остается надеяться, что такой
диалог между Россией и США рано или поздно все же возобновится. Его отсутствие чре-
вато непредсказуемыми последствиями.
26 Missile Defence in Europe: Strategic, Political and Industrial Implications. Directorate-General for External
EXPO-SEDE_ET(2011)433827_EN.pdf).
27 Заявление МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Министерство иностранных дел Российской федера-
ции.
problemy/1852877/)
80
В.И. Мизин. О нерешенном аспекте контроля над вооружениями: противоракетная дилемма
V. Mizin. The Unsolved Issue of Arms Control: Anti-missile Dilemma
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Антонов А. И. (2012) Контроль над вооружениями: история, состояние, перспективы. М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН); ПИР-Центр. 132 с.
Аничкина А.Б. Есин В.И. (2015) Дальнейшее сокращение стратегических ядерных вооружений
России и США в контексте широкого понимания военно-стратегического баланса // Россия и Аме-
рика в XXI веке. № 2. С. 3.
Арбатов А. Г. (2018) Угрозы стратегической стабильности - мнимые и реальные // Полис. По-
Дворкин В. (2012) Перспективы противоракетного сотрудничества США/НАТО и России // В:
Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? Ред.: Арбатов А., Дворкин В. М.:
РОСПЭН. С. 192-211.
Мизин В.И. (2019) Новые контуры стратегической стабильности и перспективы контроля над
стратегическими вооружениями // Пути к миру и безопасности. № 1. С. 96-121. DOI: 10.20542/2307-
1494-2019-1-96-121.
Мизин В.И. (2020) Новые контуры стратегической стабильности в глобальной многополярной
конкуренции // Международные процессы. Т. 18. № 2. С. 141-168. DOI: 10.17994/IT.2020.18.2.61.8.
Brooks L.F. (2020) The End of Arms Control? // Daedalus. No. 149. Pp. 83-100. (https://www.amacad.
org/sites/default/files/publication/downloads/Daedalus_Sp20_6_Brooks.pdf).
Gottemoeller R. (2020) Rethinking Nuclear Arms Control // Washington Quarterly. Vol. 43. Issue 3.
Pp. 139-159.
Ivanov I. (2000) The Missile-Defense Mistake: Undermining Strategic Stability and the ABM Treaty //
Foreign Affairs. Vol. 79. No. 5. Pp. 15-20.
Lewis G., von Hippel F. (2018) Limitations on Ballistic Missile Defense - Past and Possibly Future //
Bulletin of the Atomic Scientists. Vol. 74. No. 4. Pp. 199-209.
Wilkening D.A. (2000) Ballistic-Missile Defence and Strategic Stability // The Adelphi Papers. Vol. 40.
Issue 334. Pp. 5-8. DOI: 10.4324/9781315001043.
REFERENCES
Antonov A. I. (2012) Kontrol’ nad vooruzhenijami: istorija, sostojanie, perspektivy [Control over Ar-
maments: History, State, Perspectives]. Moscow: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN);
PIR-Centr. 132 p.
Аnichkina T.B, Esin V.I. (2015) Dalyneishee sokrasheniye strategisheskikh yadernykh sil Rossii I
SShA v kontekste shirokogo ponimaniya voenno-straegisheskogo balansa [Further Reductions of Strategic
Nuclear Forces of Russia and the USA in the Framework on Broader Comprehesion of Strategic Balance].
Rossiya i Amerika v XXI veke. no. 2, p. 3.
Аrbatov A. (2018) Ugrozy strategicheskoy stabilnosti - mnimye i realnye [The Threats to Strategic Sta-
Brooks L.F. (2020) The End of Arms Control? Daedalus. no. 149, pp. 83-100. (https://www.amacad.
org/sites/default/files/publication/downloads/Daedalus_Sp20_6_Brooks.pdf).
Dvorkin V. (2013) Perspektivy protivoraketnogo sotrudnichestva SShA/NATO i Rossii [Prospects
for Antimissile Cooperation between the USA/NATO and Russia]. In: Protivoraketnaja oborona: pro-
tivostojanie ili sotrudnichestvo? Ed(s): Arbatov A., Dvorkin V. Moscow: Carnegie Center, ROSSPEN.
Pp. 192-211.
81
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 68-82
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 68-82
Gottemoeller R. (2020) Rethinking Nuclear Arms Control. Washington Quarterly. vol. 43, issue 3,
pp. 139-159.
Ivanov I. (2000) The Missile-Defense Mistake: Undermining Strategic Stability and the ABM Treaty.
Foreign Affairs. vol. 79, no. 5, pp. 15-20.
Lewis G.and von Hippel F. (2018) Limitations on Ballistic Missile Defense - Past and Possibly Future.
Bulletin of the Atomic Scientists. vol. 74, no. 4, pp. 199-209.
Mizin V.I. (2019) Novye kontury strategicheskoj stabil’nosti i perspektivy kontrolja nad strategicheskimi
vooruzhenijami [New Contours of Strategic Stability and Perspectives of Control Over Strategic
Armaments]. Puti k miru i bezopasnosti. no. 1, pp. 96-121. DOI: 10.20542/2307-1494-2019-1-96-121
Mizin V.I. (2020) Novye kontury strategicheskoi stabilnosti v globalnoy mnogopolyarnoy konkurentzii
[Novel Outlines of Strategic Stability in the Global Multipolar Competition]. Mezhdunarodnye protsessy.
ArticlePdf/1657/pxGpMC37T6.pdf).
Wilkening D.A. (2000) Ballistic-Missile Defence and Strategic Stability. The Adelphi Papers. vol. 40,
issue 334, pp. 5-8. DOI: 10.4324/9781315001043.
Информация об авторе
Мизин Виктор Игоревич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра
международной безопасности, Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений им. Е. М. Примакова РАН. Адрес: 117997 Москва, Профсоюзная ул., 23.
E-mail: vmizin@hotmail.com
About the author
Victor I. Mizin, Candidate of Sciences (History), Senior Research Fellow, Center for International Se-
curity, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Acad-
emy of Sciences (IMEMO RAS) (Moscow, Russia). Address: 117997 Moscow, Profsotuznaya street, 23.
E-mail: vmizin@hotmail.com
Статья поступила в редакцию/ Received: 14.11.2022
Статья поступила после рецензирования и доработки/ Revised: 28.01.2023
Статья принята к публикации/ Accepted: 15.02.2023
82