Российские нанотехнологии, 2021, T. 16, № 5, стр. 702-710
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО И ДРЕВНЕГО КРАСОЧНОГО ПИГМЕНТА РИСУНКОВ ПИСАНИЦЫ ДВУГЛАЗЫЙ КАМЕНЬ (Р. НЕЙВА, СРЕДНИЙ УРАЛ)
Д. В. Киселева 1, *, В. Н. Широков 2, Е. С. Шагалов 3, Е. А. Панкрушина 1, Д. А. Данилов 4, А. Н. Хорькова 4
1 Институт геологии и геохимии им. ак. А.Н. Заварицкого УрО РАН
Екатеринбург, Россия
2 Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия
3 Уральский государственный горный университет
Екатеринбург, Россия
4 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Екатеринбург, Россия
* E-mail: kiseleva@igg.uran.ru
Поступила в редакцию 02.06.2021
После доработки 02.06.2021
Принята к публикации 15.06.2021
Аннотация
Представлены результаты сравнительного анализа древнего красочного слоя писаницы Двуглазый Камень (Алапаевск, р. Нейва) и экспериментального рисунка, выполненного там же в 1992 г. из краски, изготовленной в соответствии с предполагаемой древней технологией (растирание кусочка местной железной руды со свиным салом). Исследования минерального и химического состава проведены методами сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (СЭМ-ЭДС) и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Полученные результаты не исключают использования древними людьми местного сырья (гематита железорудных проявлений “алапаевского типа”) в качестве красящего пигмента. Технология ручного перетирания гематитсодержащего материала как в древности, так и в наши дни позволила добиться получения мелкодисперсного, практически с субмикронными размерами частиц, пигмента. Древний красочный слой покрыт вторичными образованиями, представленными корочками, состоящими из кристаллов гипса и уэдделлита, в некоторых случаях с тонкими прослоями доломит-магнезитового состава на гипсе. Предложены возможные механизмы образования гипсовых корок. Образование оксалатных корок (уэдделлит) может быть обусловлено жизнедеятельностью лишайников, вероятные следы присутствия которых зафиксированы в экспериментальном рисунке. В составе органической компоненты древней краски обнаружены следы жира одомашненных жвачных животных (наиболее вероятно барана), который мог быть добавлен в качестве связующего, в отличие от экспериментальной краски на основе свиного жира. Также образцы краски содержат примесь органического вещества растительного происхождения из окружающей среды.
ВВЕДЕНИЕ
Писаница Двуглазый Камень находится в Свердловской области на территории Муниципального образования г. Алапаевск. Представляет собой скалистый мыс на правом берегу р. Нейвы, в 250 м от детского оздоровительного лагеря “Спутник”, в 400 м к западу от писаницы Косой Камень, в 2.9 км к северу от пос. Зыряновский (здания школы № 18) (рис. 1). Рисунки на Двуглазом Камне были открыты в 1938 г. местным краеведом П.И. Фроловым, позднее изучались П.И. Чернавиным и археологом Д.Н. Эдингом, в отчетах которого скала с древними изображениями названа в честь первооткрывателя – Фроловым Камнем. В 1939 г. по заданию Государственного исторического музея на Нейву вновь выехал Д.Н. Эдинг. Им были скопированы рисунки “Двуглазого” и Коптелова камней. В 1958 г. на Нейве работал Западно-Сибирский отряд Института археологии во главе с В.Н. Чернецовым. Сотрудники экспедиционного отряда выполнили копии изображений на Коптеловых камнях и Двуглазом Камне. При этом название писанице “Двуглазый Камень” В.Н. Чернецов дал ошибочно. В действительности Двуглазый Камень с гротом и двумя входными отверстиями, напоминающий человеческий череп, расположен на другом берегу Нейвы чуть ниже по течению [1]. В 1984–1987 гг. уральские археологи В.И. Стефанов и Ю.П. Чемякин вместе со школьниками из г. Свердловска занимались обследованием писаниц на р. Нейве [2]. В 1994, 1995 и 1998 гг. В.Н. Широковым проведена фотофиксация изображений на цветную пленку, выполнена черно-белая копия основного панно [3, 4]. В 2015 г. сотрудниками отдела археологии Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области проведен мониторинг объекта культурного наследия, состояние оценено как удовлетворительное.
Описание памятника. Писаница расположена в 2 км ниже по течению от Коптеловского Камня на правом берегу реки Нейва. Скальные останцы сложены породами средне- и верхневизейского подъярусов визейского и намюрского ярусов, состоящими из известняков, доломитов, мраморов, песчаников, глинистых сланцев и конгломератов, перекрытых альбско-сеноманскими континентальными отложениями, содержащими глины, алевриты, пески со щебнем окремнённого известняка и железорудными проявлениями “алапаевского типа” и бобовых руд.
Скала с рисунками копнообразной формы высотой ~15 м обращена к югу. В левой части скалы имеется неглубокий низкий грот размером 2 × × 1.5 м. Вдоль фасадной части скалы проходит косой карниз шириной до 50 см. Территория у скалы поросла преимущественно сосновым лесом, непосредственно перед скальными плоскостями с древними рисунками растут березы. В.Н. Чернецов выделял здесь три группы рисунков. В.Н. Широковым все рисунки распределены на два участка. 1-я и 2-я группы по В.Н. Чернецову вошли в участок 1, 3-я – в участок 2. На участке 1 в центральной части фасада скального выступа, на расстоянии 4 м от воды находится основное панно с большим количеством рисунков. Здесь сохранились группы пятен и небольших отрезков, зигзаги одиночные и сдвоенные, снабженные отрезками, многоугольные мотивы, сдвоенная дуга, окружность с лучами, авиформы, орнаментализованное изображение животного – медведя, копытное с пятнами внутри контурного тела, а также сложные знаки и неопределенные изобразительные мотивы. На участке 2 (группа 3 по В.Н. Чернецову) справа от основного панно – зигзаги, ступенчатые и многоугольные мотивы. Сохранность рисунков и цвет красной краски различаются, отмечен случай подведения рисунка копытного в центральной части основного панно (рис. 2). Все изобразительные мотивы кратко охарактеризованы в табл. 1.
Рис. 2.
Внешний вид основного панно писаницы Двуглазый Камень с местами отбора четырех образцов краски ДК-2, 3, 5 и 6, скальной основы ДК-4 (а); гематит-лимонитовая руда ДК-1 (б); место отбора фрагмента ожелезненной поверхности известняка ДК-7 (в); вид экспериментального рисунка В.Ю. Попова с местами отбора образцов (г).
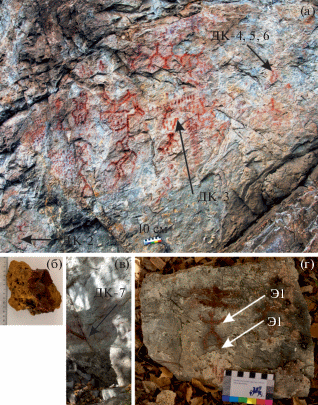
Таблица 1.
Изобразительные мотивы на вертикальной плоскости Двуглазого Камня (р. Нейва, Средний Урал); ориентировка плоскости с рисунком – юг
| Мотив | Техника, цвет1 | Размеры, ширина линии, см |
|---|---|---|
| Участок 1 | ||
| 1 – скопление штрихов | Рисунок, 10R 6/6 | 44 × 40 <1 |
| 2 – фрагмент знака (зигзаг?) | Рисунок, 5R 6/6 | 9 × 13 ~1–1.5 |
| 3 – фрагмент вертикального зигзага с отрезками | Рисунок, 5R 6/6 | 8 × 14 ~1 |
| 4 – скопление штрихов | Рисунок, 5R 4/6 | 18 × 18 <1 |
| 5 – вертикальный зигзаг с отрезками | Рисунок, 5R 6/6 | 6 × 37 |
| 6 – скопление штрихов, напоминающее фигуру | Рисунок, 5R 6/6 | 13 × 14 <1 |
| 7 – вертикальный зигзаг с треугольным основанием | Рисунок, 5R 6/6 | 8 × 20 |
| 8 – сложная многоугольная фигура (сдвоенные соты) | Рисунок, 5R 6/6 | 11 × 21 |
| 9 – ряд сот из штрихов | Рисунок, 5R 6/6 | 16 × 9 |
| 10 – полусотовый зигзаг горизонтальный | Рисунок, 5R 6/6 | 49 × 17 |
| 11 – полусотовый зигзаг (над мотивом 10) | Рисунок, 5R 6/6 | 45 × 14 |
| 12 – копытное с пятнами внутри туловища, зигзагом и двойной дугой | Рисунок, 5R 6/6 | 27 × 61 ~1–1.5 |
| 13 – медведь с зигзагом | Рисунок, 5R 6/6 | 12 × 60 |
| 14 – солярный знак | Рисунок, 5R 4/6 | Диаметр ~ 10 см |
| 15 – авиа | Рисунок, 5R 6/6 | 4.5 × 5 |
| 16 – авиа | Рисунок, 5R 6/6 | 5 × 5 |
| 17 – вертикальный зигзаг | Рисунок, 5R 6/6 | 6 × 37 |
| 18 – ромб с зигзагом (левый) | Рисунок, 5R 6/6 | 5 × 13 |
| 19 – ромб с зигзагом (правый) | 4 × 12 | |
| 20 – ряд штрихов (14) | 29 × 3 | |
| 21 – фрагмент горизонтального зигзага с отрезком | 27 × 18 | |
| 22 – фрагмент зигзага с отрезком | 13 × 7 | |
| Участок 2 | ||
| 23 – вертикальный многоугольный зигзаг | Рисунок, 5R 2/6 | 22 × 22 |
| 24 – вертикальный зигзаг | Рисунок, 5R 2/6 | 17 × 20 |
| 25 – ряд из многоугольников | Рисунок, 5R 2/6 | 14 × 13 |
| 26 – ступенчатая линия (горизонтальная) | Рисунок, 5R 2/6 | 33 × 23 |
На вершине скального уступа во многих местах фиксируются многочисленные шурфы и карьеры, выполненные, вероятно, в конце XIX в. в целях поиска железной руды, куски которой встречаются на данном отрезке реки практически повсеместно.
В конце сентября 2020 г. были отобраны образцы краски для проведения анализов. Один образец был отобран с экспериментального рисунка, выполненного В.Ю. Поповым в сентябре 1992 г. Работая над научно-популярным фильмом “Циркумполярные культуры. Предисловие”, он для съемки эпизода растер кусочки охры, найденной неподалеку, смешал этот порошок с нутряным свиным жиром (9–10-месячного поросенка), а затем полученной смесью нарисовал на камне веточкой солярный знак и человечка.
Цель работы заключается в сравнительном анализе экспериментального образца краски известного состава с образцами красочного пигмента, которым выполнены древние рисунки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На участке 1, на основном панно взяли четыре образца краски ДК-2, 3, 5 и 6 (рис. 2а), скальной основы ДК-4, а также фрагмент ожелезненной поверхности известняка ДК-7. Также были отобраны два образца с поверхности экспериментального рисунка В.Ю. Попова Э1 и Э2 (рис. 2б) и образец гематит-лимонитовой руды (ДК-1).
СЭМ-изображения и ЭДС-спектры образцов, напыленных углеродом, получены с использованием сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6390LV с ЭДС-спектрометром INCA Energy 450 EDS с ускоряющим напряжением 20 кВ.
Минеральные фазы диагностированы с помощью конфокального спектрометра комбинационного рассеяния света (КРС) LabRAM HR800 Evolution с дифракционной решеткой 600 штр/мм; возбуждение лазером, излучающим на 488 нм; пространственное разрешение до 2 мкм.
Для хроматографического анализа были взяты образцы краски ДK-6 и Э2. Масса навесок составила ~0.007 и 0.092 г соответственно. Экстракцию жирных кислот (ЖК) из навесок проводили смесью хлороформ:метанол (2:1). Для лучшего протекания растворения пробы помещали в ультразвуковую ванну на 20 мин. Проводили центрифугирование проб в течение 10 мин при 3000 об./мин. Полученный экстракт помещали в вакуум для удаления растворителя. Сухой остаток растворяли в ацетонитриле и дериватизировали при помощи диметилформамид-диметилацеталя. Для проведения газовой хроматографии/масс-спектрометрии (GC-MS) с использованием масс-спектрометра Perkin Elmer Clarus 600T образцы были введены при помощи инжектора в режиме бессбросового ввода образцов в капиллярную колонку (Elite-5MS 30 м × 250 мкм, толщина слоя неподвижной фазы 0.25 мкм). Температура инжектора составляла 200°С с фазой испарения, равной одной минуте. Программа GC состояла из равномерного увеличения температуры с 30 до 300°С со скоростью 10°С/мин, за которым следовал изотермический период при температуре 300°С в течение 5 мин. Общее время анализа составило 32 мин. MS проводили в режиме ионизации электронным ударом (EI), температура газохроматографического интерфейса – 200°С, а температура катода – 180°С, напряжение на источнике ионов – 70 эВ. MS получали в диапазоне отношений массы к заряду 35–400 а.е.м. Идентификация пиков проведена с использованием встроенной библиотеки масс-спектров и литературных данных, а также собственной интерпретации масс-спектров.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Цвет рисунков красный, различной интенсивности. Это связано с покрытием красочного слоя вторичными образованиями, представленными корочками, состоящими из кристаллов гипса размером до 40 мкм (рис. 3б). В некоторых случаях на гипсе лежит прослой доломит-магнезитового состава толщиной менее 10 мкм (рис. 3в, 3г). Красочный слой состоит из тонкоперетертого материала, содержащего гематит. Размер частиц порядка нескольких микрон.
Рис. 3.
СЭМ-изображения в режиме обратно-рассеянных электронов: сколы с образцов ДК-2 (а, б), ДК-6 (в–д) и гематит-лимонитового агрегата ДК-1 (е); б – гипсовые кристаллы на красочном слое, в, г – гипсовые кристаллы на доломит-магнезитовой корочке, покрывающие красочный слой.

Образец гематит-лимонитовой руды, вероятно, используемой для экспериментального изготовления красок, показан на рис. 4е. Гематит черного цвета имеет радиально-лучистое и скорлуповатое строение, внешняя часть образца покрыта пористым слоем светло-коричневого агрегата лимонита.
Рис. 4.
СЭМ-изображения в режиме обратно-рассеянных электронов: а – образец Э1, красочный слой хорошо выделяется белым цветом (прямоугольником выделен на рис. в); б – образец Э2; в – строение внутренней части образца Э1 (участок выделен прямоугольником на рис. д); г – строение красочного слоя образца Э1; частички гематита смешаны с хлопьевидными частицами; д – дискообразные органические частицы во внутренней части образца Э1 (пыльца?); е – дискообразные и нитевидные органические частицы в красочном слое образца Э1.
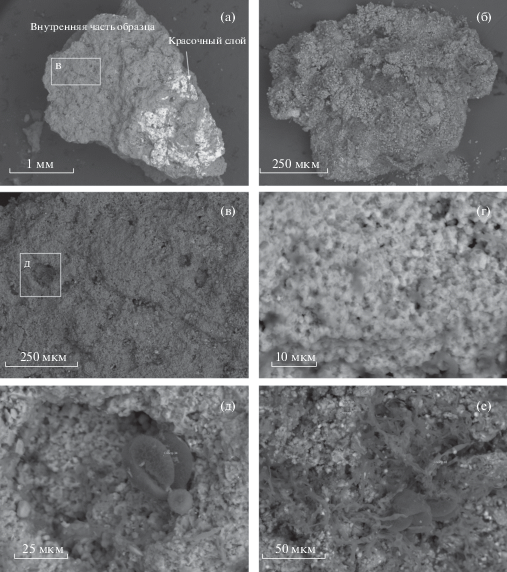
Экспериментальный рисунок (образцы Э1 и Э2) темно-коричнево-красного цвета. Размер частичек в красочном слое ~2 мкм, достаточно равномерный. Присутствуют хлопьевидные тонкие частицы того же размера, содержащие в составе серу и фосфор – элементы, которые не наблюдаются в частицах краски других образцов. Также отмечаются органические волокна до 150 мкм в длину и дискообразные тела диаметром около 25 мкм (рис. 4), возможно, являющиеся пыльцой растений. Подобная форма и довольно большой размер (20–25 мкм) являются характерной для пыльцы растений и не могут быть приняты за цианобактерии, обладающие гораздо меньшими размерами (2–3 мкм) и образующие многочисленные колонии. По поверхности образца, по всей видимости, развит тонкий слой гипса, проявленный при картировании (рис. 5). По картам распределения также видно, что наибольшее количество углерода связано с красочным слоем, что может быть обусловлено использованием органического связующего (сала) при изготовлении краски. Вероятно, жир, проникая по микротрещинам, приводит к появлению невысоких содержаний углерода вне красочного слоя (рис. 5).
Рис. 5.
СЭМ-изображение в режиме обратно-рассеянных электронов и комбинированная карта сечения образца экспериментальной краски Э1 и карты распределения элементов (сера, кальций, углерод и железо). Хорошо виден гематитовый красочный слой в смеси с углеродистой составляющей. Кальций и сера локализованы в одном месте, что говорит о присутствии гипсовой фазы (и возможно, уэдделлитовой) на поверхности образца.

Все обнаруженные минералы подтверждены с помощью спектроскопии КРС (рис. 6). Для образца экспериментальной краски спектры КРС записать не удалось из-за сильной люминесценции, обусловленной, по всей вероятности, большим количеством органического вещества из свиного жира, которое еще не успело разложиться за несколько десятилетий. В пигменте древней краски писаницы Двуглазый Камень обнаружены гематит Fe2O3 (наиболее вероятный минеральный компонент краски), гипс CaSO4 · 2H2O, а также ангидрит CaSO4 и оксалат кальция – уэдделлит Ca(C2O4) · 2H2O. Спектроскопия КРС позволила уточнить, что в корках, покрывающих слой краски, кроме гипса присутствует уэдделлит.
Рис. 6.
Спектры КРС различных участков образца краски ДК-2 из писаницы Двуглазый Камень. Стрелками показаны колебательные моды (ν1–ν4) функциональных группировок гематита (Fe2O3), гипса (CaSO4 · 2H2O), уэвеллеита (Ca(C2O4) · 2H2O), ангидрита (CaSO4 · 2H2O). Длина волны возбуждения 488 нм. Дифракционная решетка 600 штр/мм. ν1 и ν3 – симметричное и несимметричное валентное колебание, ν2 и ν4 – симметричное и несимметричное деформационное колебание.
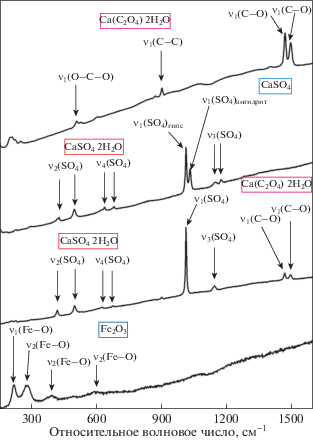
Оксалатные корки, в целом, характерны для поверхностей как расположенных под открытым небом, так и не подверженных воздействию атмосферных осадков [5, 6]. Показано, что оксалаты могут выполнять стабилизирующую функцию и защищать пигменты от выветривания и надежно фиксировать краситель на поверхности субстрата [6]. Уэдделлит обнаружен только в корках; в массиве скальной основы, представленной окварцованным известняком, его нет. Наиболее вероятным источником оксалатов могут являться лишайники – симбиотические ассоциации грибов (микобионтов) и микроскопических зеленых водорослей и/или цианобактерий (фотобионтов). Лишайники, например Аспицилия известняковая (Aspicilia calcarea), способны производить в процессе жизнедеятельности пруин (воскообразный защитный налет), состоящий из уэдделлита. Более того, в образцах экспериментальной краски встречаются нитевидные структуры, сходные с гифами грибов-микобионтов лишайника (рис. 3е). Фосфор, обнаруженный в довольно малых количествах, также может быть продуктом жизнедеятельности лишайника.
К образованию гипса могли привести несколько процессов, включающих в себя как природные источники серы, так и ее искусственное внесение в составе связующего краски. К первым относится механизм эффлоресценции (кристаллизации) вследствие перколяции поровых вод, несущих сульфат-ион через толщи известняка к поверхности, где при испарении воды кристаллизовался гипс. При этом источником серы могли служить и рудные объемы расположенного поблизости месторождения железных руд. Еще одним природным источником могли быть оксиды серы из атмосферы. На данный момент неясно, как происходила миграция сульфат-ионов – снаружи внутрь или изнутри наружу, поэтому сложно определить преимущественный источник сульфатной серы. Не исключается, что сера могла входить в состав органической связующей компоненты красителя, такого, как, например, жир или костный мозг животных [7].
По наличию таких минералов, как гипс CaSO4 · · 2H2O и ангидрит CaSO4, а также уэдделлит Ca(C2O4) · 2H2O, которые довольно легко могут гидратироваться и дегидратироваться, можно предположить чередование периодов сухих и влажных климатических условий за время формирования минеральных корок на поверхности породы.
По результатам хроматографического анализа было установлено присутствие в образцах преимущественно пальмитиновой С16:0 (P) и стеариновой С18:0 (S), а также в меньших количествах миристиновой С14:0 (М), арахиновой (С20:0), бегеновой (С22:0) и лигноцериновой (С24:0) насыщенных ЖК, а также насыщенных с нечетным числом атомов углерода пентадекановой С15:0, гептадекановой (маргариновой) С17:0 и пентакозановой С25:0 ЖК. Были обнаружены ненасыщенные пальмитолеиновая C16:1, олеиновая C18:1 и линолевая С18:2 ЖК.
Согласно [8–10] соотношение массовых долей насыщенных ЖК P/S может быть использовано для идентификации видовой принадлежности остатков жиров и масел в археологических материалах. Для оценки происхождения органических остатков рассчитали соотношения кислот P/S в исследованных образцах. Для экспериментальной современной краски Э2 оно составило 1.72, что соответствует свиному жиру (1.7–1.9), а для образца древней краски оно составило 1.18, что позволяет предположить происхождение скорее от жвачных животных, таких как крупный рогатый скот (1–1.6) или овца (1.0–1.3), чем от животных с однокамерным желудком, например лошадей (9.4) [11], свиней [8, 9]. Полученное значение также сильно отличается от жира диких жвачных: лося (1.48), оленя (0.7) и вилорога (0.7) [12]. Полученное для древнего пигмента соотношение P/S = 1.18 было сопоставлено с костным мозгом диких жвачных с многокамерным желудком на примере плюсневых костей лося, оленя и вилорога (P/S ~ 4) [12], а также с костным мозгом бедренной кости верблюда (1.4), коровы (1.82), козы (2.28), овцы (1.72) и свиньи (9.4) [13].
Наличие миристиновой кислоты говорит в пользу животного происхождения жиров из обоих образцов, поскольку в растениях и растительных маслах содержание миристиновой кислоты крайне мало (0.01–0.1%) [9].
Отмеченные в составе древнего образца краски ЖК с нечетным числом атомов углерода характерны для жиров жвачных животных [14, 15]; более того, пентадекановая С15:0 и гептадекановая (маргариновая) С17:0 ЖК были обнаружены в гидрогенизированном жире барана [15].
Пентакозановая С25:0 и лигноцериновая С24:0 кислоты относятся к насыщенным ЖК с очень длинной углеродной цепочкой, которые являются важными компонентами клеток эукариотов – растений и животных, а также лишайников [16]. Пентакозановая С25:0, арахиновая С20:0, бегеновая С22:0 и лигноцериновая С24:0 ЖК были обнаружены в значительных количествах при анализе древесины и коры ели обыкновенной, или европейской (Picea abies), и лиственницы европейской, или опадающей (Larix decidua) [17]. Учитывая наличие хвойных лесов в изучаемой местности и вероятной пыльцы растений на микрофотографиях краски, можно предположить “загрязнение” пигментов органическими веществами растительного происхождения (пыльцой, микрочастицами коры и древесины хвойных) из окружающей среды за длительное время.
Таким образом, в ЖК-составе изученных образцов наблюдаются различия: если для экспериментального образца на основе связующего из свиного жира соотношение пальмитиновой и стеариновой кислот соответствует литературным данным, то в образце древней краски обнаружены следы жира одомашненных жвачных животных, наиболее вероятно барана. В обоих образцах фиксируются следы органического вещества растительного происхождения, возможно, попавшего на рисунок с течением времени из окружающего хвойного леса и/или вследствие развития микроскопических лишайников на поверхности скальной основы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставительный анализ экспериментального образца краски с образцами древнего красочного пигмента писаницы Двуглазый Камень не исключает использования древними людьми местного сырья (гематита железорудных проявлений “алапаевского типа”) в качестве красящего пигмента. Технология ручного перетирания гематитсодержащего материала как в древности, так и в наши дни позволила добиться получения мелкодисперсного, практически с субмикронными размерами частиц, пигмента. Уверенно диагностируемых методом СЭМ остатков органического вещества искусственного происхождения (возможно добавленного в качестве связующего в краску) в древних рисунках не обнаружено в отличие от современной экспериментальной краски, где наибольшее количество углерода приурочено к красочному слою с салом. К тому же древний красочный слой покрыт вторичными образованиями, представленными корочками, состоящими из кристаллов гипса и уэдделлита, в некоторых случаях с тонкими прослоями доломит-магнезитового состава на гипсе. Образование оксалатных корок (уэдделлит) может быть обусловлено жизнедеятельностью лишайников, вероятные следы присутствия которых зафиксированы в экспериментальном рисунке. Возможные механизмы образования гипсовых корок значительно разнообразнее и на данной стадии исследований не позволяют выявить преимущественный. Метод GC-MS подтвердил, что в состав органической компоненты экспериментального образца краски входит свиной жир, а в образце древней краски обнаружены следы жира одомашненных жвачных животных (наиболее вероятно барана), который мог быть добавлен в качестве связующего. Также образцы краски содержат примесь органического вещества растительного происхождения из окружающей среды.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-09-00194). Сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией и КРС-спектроскопия выполнены в ЦКП УрО РАН “Геоаналитик” в рамках темы № АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП “Геоаналитик” ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2021-680.
Список литературы
Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала. Ч. 2 (Свод археологических источников, Вып. 4–12). М.: Наука, 1971. 120 с.
Чемякин Ю.П. Матер. науч. конф. “Урал в прошлом и настоящем”. Ч. I, Екатеринбург, 24–25 февраля 1998. С. 123.
Широков В.Н., Чаиркин С.Е., Чемякин Ю.П. Уральские писаницы: река Нейва. Екатеринбург: БКИ, 2000. 50 с.
Широков В.Н., Чаиркин С.Е. Наскальные изображения Северного и Среднего Урала. Екатеринбург: Издательский дом “Ажур”, 2011. 181 с.
Киселева Д.В., Шагалов Е.С., Панкрушина Е.А. и др. // Геоархеология и археологическая минералогия. 2019. № 6. С. 53.
Russ J., Kaluarachchi W.D., Drummond L. et al. // Studies in Conservation. 1999. V. 44 (2). P. 91.
Reese R., Hyman M., Rowe M. et al. // J. Archeol. Sci. 1996. V. 23. P. 269.
Khorkova A.N., Danilov D.A., Kiseleva D.V. et al. AIP Conf. Proc. 2020. V. 2313. P. 050055.
Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., Слушная И.С. и др. // Бутлеров. сооб. 2017. Т. 52 (12). С. 73.
Evershed R.P., Dudd S.N., Copley M.S. et al. // Acc. Chem. Res. 2002. V. 35. P. 660.
He M.L., Ishikawa S., Hidari H. // Asian-Australasian J. Animal Sci. 2005. V. 18. P. 165.
Cordain L., Watkins B.A., Florant G.L. et al. // Eur. J. Clin. Nutrition. 2002. V. 56. P. 181.
Abd-El-Aal M.H., Mohamed M.S. // Food Chem. 1989. V. 31. P. 93.
Азаров Е.С., Пожидаев В.М., Шишлина Н.И. и др. // Краткие сообщения Института археологии. 2016. № 244. С. 391.
Hansen R.P., Shorland F.B., Cooke N.J. // Biochem. J. 1954. V. 58 (4). P. 516.
Rezanka T., Sigler K. // Prog Lipid Res. 2009. V. 48 (3–4). P. 206.
Salem M.Z.M., Nasser R.A., Zeidler A. et al. // BioRes. 2015. V. 10 (4). P. 7715.
Дополнительные материалы отсутствуют.
Инструменты
Российские нанотехнологии



