Вестник РАН, 2020, T. 90, № 12, стр. 1183-1193
НАЦИОНАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕРВОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ-НОБЕЛИАТА
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЧЁТНОГО АКАДЕМИКА И.А. БУНИНА
В. В. Полонский *
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Москва, Россия
* E-mail: v.polonski@imli.ru
Поступила в редакцию 20.06.2020
После доработки 20.07.2020
Принята к публикации 27.08.2020
Аннотация
Статья посвящена 150-летию классика отечественной литературы, почётного академика Императорской академии наук по Разряду изящной словесности, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе И.А. Бунина (10(22).10.1870–08.11.1953). Рассматривается параллель категории “национального” как “универсального”, открытого миру, способного уроднять чужой опыт в творческом сознании Пушкина, стоявшего у истоков большой русской классики, и Бунина, во многом завершавшего эту традицию в XX в. Обозреваются эстетические доминанты художественного мира Бунина, свойственные ему пути освоения образов и тем мировой культуры, а также трагического опыта человека постклассической эпохи. Приводятся оценки творчества писателя крупнейшими деятелями западной литературы (Томасом Манном, Роменом Ролланом, Андре Жидом и другими). Разбираются обстоятельства избрания Бунина академиком в 1909 г. Анализируются экспертные оценки его творчества Нобелевским комитетом, предшествовавшие присуждению премии в 1933 г. Особое внимание уделяется значению этих вех в биографии Бунина и основным составляющим его литературной репутации.
Любой большой юбилей имеет значение, только если помимо дежурной праздничной риторики мы используем его как повод извлечь свежие – или забытые – смыслы из наследия юбиляра, оживить его присутствие здесь и сейчас, желательно – до степени впечатляющей новизны. По парадоксальной логике большой культуры таким потенциалом обладает прежде всего классика: вспомним слова О.Э. Мандельштама о “неувядающей новизне” “серебряной трубы Катулла” [1, с. 8].
В июне 1880 г. в своей знаменитой речи на заседании Общества любителей российской словесности по случаю открытия опекушинского памятника Пушкину в Москве Ф.М. Достоевский потряс публику тем, что, помимо прочего, показал, что её национальный гений, воплотившийся в фигуре первенствующего из поэтов, явил своё собственно национальное естество не через спесивую самодостаточность, а через “всемирную отзывчивость”. Русское начало исполнило себя именно в том, что оказалось всевместимым, способным “перевоплощаться вполне в чужую национальность”, быть постольку русским, поскольку универсальным. “Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого <…> народа, дух его, всю затаённую глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин”, – утверждает Достоевский [2, с. 176, 177], превращая эти слова в откровения о “национальном призвании” своего народа и русской культуры.
В этом году мы отмечаем 150-летие И.А. Бунина – писателя, чьё имя с разительной и многоуровневой символичностью рифмуется с именем Пушкина. Наверное, как никто из русских классиков XX в. он поверял своё слово по пушкинскому камертону. В историко-литературных зеркалах уникальность роли Пушкина в отечественной словесности XIX столетия отражается выпавшею Бунину ролью первого русского нобелиата в столетии XX-м, лауреата премии, призванной запечатлевать вхождение писателя в анналы всемирной литературы. Тем самым вековой путь русской классической словесности был своеобразно закольцован актом международного признания.
Важнейшие вехи бунинской биографии и глубинный нерв творчества писателя прямо или косвенно запечатлены именем Пушкина и его традицией. Дважды Бунин за собственную поэзию и переводы из Г.У. Лонгфелло, А. Теннисона и Дж. Байрона был удостоен Пушкинской премии Императорской Академии наук (в 1903-м и 1909-м, когда премия была поделена между ним и А.И. Куприным). Всю жизнь писатель, широкой публикой чтимый прежде всего за прозу, сам себя считал в первую очередь поэтом. Среди тех немногих, кто горячо с этим соглашался, был и такой мэтр взыскательно-изощрённого литературного снобизма, как В.В. Набоков. В начале своего пути он посвятил Бунину стихотворение “Как воды гор, твой голос горд и чист…” (1922), в письме от 19 марта 1921 г. адресовал ему строки восхищения “единственным писателем, который в наш кощунственный и косноязычный век спокойно служит прекрасному <…> причём несравненны чистота, глубина, яркость каждой строки его, каждого стиха” [3, с. 191], в зрелые же годы хлёстко разводил две ипостаси автора “Тёмных аллей”: “Гениальный поэт – а как прозаик почти столь же плохой, как Тургенев”11. И как бы ни был Набоков пристрастен в своих оценках, Бунин для него неизменно оставался едва ли не наиболее прямым и чистопородным наследником Пушкина в русской поэзии [5, с. 137], по сути, – завершителем линии её классического преемства. Завершителем плодоносным, творчески открытым новому, в частности – единству слова с изощрённой живописностью, пережившей искус импрессионизмом. Отсюда же – такие слова К.И. Чуковского о Бунине: “Его степной деревенский глаз так хваток, остёр и зорок, что мы все перед ним – как слепцы. Знали ли мы до него, что белые лошади под луною зелёные, а глаза у них фиолетовые, а дым – сиреневый, а чернозём – синий, а жнивья – лимонные. Там, где мы видим только синюю или красную краску, он видит десятки оттенков: розово-палевый, сиренево-стальной, серебристо-сизый, грязно-грифельный. Он не столько певец, сколько колорист-живописец” [20, с. 584].
В критике уже с 1900-х годов стали общим местом рассуждения в разных риторических модуляциях о вовлечённости Бунина в русскую классическую традицию, о головокружительном, филигранном его мастерстве владения русским словом, о неотторжимости его гения от среднерусского ландшафта, русских образов, многовековой русской истории, “почвы и судьбы” родной страны. Но именно в этой точке рифма бунинского и пушкинского имён звучит наиболее разительно. Поскольку, рискнём сказать, не в меньшей мере, чем Пушкин, Бунин утверждал своё национальное как открытость вовне, другому, инонациональному и иновременному, а тем самым – универсальному. Отправной точкой здесь служило то свойство творческого дара, которое, по свидетельству Г.Н. Кузнецовой, сам Бунин обозначал несколько приземлённой формулой: “Я ведь чуть где побывал, нюхнул – сейчас дух страны, народа – почуял” [6, с. 206].
Поддаваясь соблазну сопоставлений и поисков внешних различий в глубинном сходстве, можно лишь заключить: если Пушкин был экстраверсивен, мимикрируя, по слову Достоевского, до “впечатляющей глубины” “перевоплощения своего духа в дух чужих народов” [2, с. 178], путь Бунина, скорее, противонаправлен: он впитывает, апроприирует, уродняет себе “иное” – художественные миры зарубежных классиков, образы мировых культур, других стран и цивилизаций, религиозные системы и мировоззренческие доктрины. В этом он – человек рубежа столетий, герой неизменно отвергаемого им Серебряного века с его вкусом к синкретизму и транскультурному экуменизму. Но неслучайно писатель неизменно восставал против самого духа эстетской эпохи и в 1913 г. на праздновании юбилея газеты “Русские ведомости” со страстью возглашал: «Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением “проблемы пола”, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и “пролёты в вечность”, и садизм, и снобизм, и “приятие мира”, и “неприятие мира”, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм – и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом “футуризм”. Это ли не Вальпургиева ночь!» [7, с. 320]. Его подход к ликам разных культур в корне отличен от того упоения экзотизмами и страсти к декоративной мозаичности эстетского стилизаторства, что был свойствен столь многим из русских модернистов. Бунин чужие голоса, образы, лики иных культур и религий впитывает в себя и транспонирует в уникальное, сугубо индивидуальное мировидение, делает неотторжимой частью единого художественного космоса, вполне соразмерного в литературной табели о рангах XX века с феноменами Пруста, Джойса или Томаса Манна. Последний в письме Ивану Алексеевичу от 11 ноября 1930 г. говорил о “восторге” и “преклонении” перед искусством русского собрата [11, с. 382], а, скажем, “Господина из Сан-Франциско” считал “по нравственной мощи и строгой пластичности” сопоставимым лишь “с некоторыми из наиболее значительных произведений Толстого”22.
Не менее выразительны и суждения Ромена Роллана, первым выдвинувшего писателя на Нобелевскую премию в 1923-м. Ещё за год до того французский классик в письме к Луизе Круппи так высказался о Бунине: “Конечно, он отнюдь не наш, он неистово, желчно антиреволюционен, антидемократичен, антинароден, почти антигуманен, пессимист до мозга костей. Но какой гениальный художник! И, несмотря ни на что, о каком новом возрождении русской литературы он свидетельствует! Какие новые богатства красок, всех ощущений!” [8, с. 375]. Тогда же он писал самому Бунину: “Вероятно, что многие идеи нас разделяют или, скорее, в соответствии с мировыми стандартами, должны бы нас разделять. Мне, со своей стороны, до этого нет дела. Я вижу лишь одну вещь: гениальную красоту ваших рассказов и обновление вами этого жанра русского искусства, уже столь богатого, сущность и форму которого вы находите способ ещё обогатить” [цит. по: 9, с. 265]. Наконец, в тексте своей номинации, направленной в Нобелевский комитет, Роллан аттестует Бунина как “одного из наиболее совершенных художников в русской словесности, мастера новеллы, равного первым мастерам этого жанра на Западе”, подчёркивая: “Он открывает перед русской литературой новые горизонты. Он более не ограничивается анализом души русского народа, которую он, впрочем, описывает с редкой объективностью, без каких-либо иллюзий предшествующего поколения. Дыхание всей Земли входит с ним в русский роман и его оживляет. Азия, в особенности Индия, её прелесть и её таинственный ужас инспирировали несколько его незабываемых новелл. Его искусство <…> отличается чистой красотой формы” [цит. по: 10, с. 259].
Неудивительно, что переводчиками и рецензентами Бунина на Западе становились знаковые фигуры рубежа веков, художники первой величины с особым вкусом к модернистскому эстетическому универсализму. Так, того же “Господина из Сан-Франциско” на английский перевёл Д.Г. Лоуренс33, а рецензентом первых франкоязычных сборников бунинской прозы выступил Анри де Ренье, подчёркивавший “блеск мастерства” русского писателя “с его насыщенностью и глубиной, с его изобразительной мощью, с его таинственной и неуловимой властью” [8, с. 378]44.
Французские собратья по нобелевскому цеху вообще не скупились на похвалы художественному гению Бунина. Франсуа Мориак выражал ему “восхищение” [14, с. 394]55, а Андре Жид, вспоминая своё пребывание у автора “Жизни Арсеньева” в Грассе, адресовал писателю такие слова: “Невозможно, конечно, представить себе понятия об этике и эстетике, о вершинах литературы и её безднах, которые были бы так глубоко, так в корне отличны от моих, как ваши. Однако вы сумели великолепно стать на свои позиции и великолепно их отстаивать. А только это и важно; ибо в искусстве нет единого пути к великому. Когда я слушаю ваш рассказ, то забываю обо всём: я покорён. Я не знаю произведений, где внешний мир так тесно сливался бы с миром иным, миром внутренним, где ощущения были бы выбраны так точно, что их невозможно заменить другими, а слова были бы так естественны и вместе с тем неожиданны” [8, с. 386].
С точки зрения сложной диалектики соотношения национального и универсального начал в творчестве Бунина характерен один из лейтмотивов его восприятия крупнейшими писателями Запада, который прослеживается и в приведённых выше отзывах: констатация инаковости, если не чуждости его опыта и одновременно готовность этот опыт с благодарностью и восхищением принять. Даже после присуждения Нобелевской премии Бунин так и не смог снискать широкой славы у массового иностранного читателя, но это уравновешивалось безусловным признанием его литературного первородства со стороны “великих”. И весьма показательно, что когда в 1950-м отмечался последний прижизненный юбилей писателя – его 80-летие, то это празднование вышло далеко за пределы русской эмигрантской общины. Во Франции был создан собственный Comité pour célébrer le quatrevingtième anniversaire de l’écrivain Ivan Bounine (“Комитет по празднованию 80-летнего юбилея писателя Ивана Бунина”) во главе с Андре Жидом и с составом, представлявшим цвет национальной литературы: Роже Мартен дю Гар, Франсуа Мориак, Андре Моруа [8, с. 347].
В бунинском мире сквозь частное, осязаемое и малое неминуемо проступает бытийное и вневременное, человек погружён в мир неведомых стихий, бьётся в тисках непознаваемости на земле окончательной истины, терзаемый пьянящей полнотой бытия и осознанием своей обречённости, потребностью преодолеть, выболеть, заклясть смерть и трагическую конечность в опыте любви (таинственнейшей и безжалостнейшей из стихий) и искупающей, спасительной и мучительной памяти. Сочинения Бунина – независимо от времени их создания – объемлются интересом к вечным загадкам человеческого существования, единым кругом лирико-философских тем: времени, наследственности, эроса, одуряющей щедрости и звериной жестокости жизни.
Время и память, едва ли не центральные темы европейской литературы XX в., задают перспективу всей прозы Бунина, но прежде всего его единственного романа, к тому же с очевидной автобиографической основой – “Жизни Арсеньева”. Реальное время, время конечное и неизбежно вершащееся смертью, через погружение героя в собственное прошлое побеждается бесконечным временем сознания – памятью. Реальность памяти обладает своей логикой. Эта логика выстраивает повествование, где вместо привычных причинно-следственных связей – вязь прихотливых ассоциаций. Так вечно длящееся для человека время памяти побеждает тот привычный для нас поток, цель которого – уничтожение, смерть. “Жизнь Арсеньева” – уникальный для русской литературы опыт “романа сознания”. Его темы и мотивы были настолько близки эпопее крупнейшего французского писателя-модерниста XX в. Марселя Пруста “В поисках утраченного времени”, что сравнение Бунина с этим автором быстро стало критическим трюизмом. Сам русский писатель относился к этому не без ревности, в общем обоснованной. Аналоги художественного воплощения характерных прустовских категорий “непроизвольной памяти” (“une mémoire involontaire”) и “реминисценций” (“réminiscences”), обозначающих внезапное воскрешение прошлого под влиянием впечатлений от отдельных предметов, вкусовых, тактильных и прочих ощущений (как от знаменитого печенья “мадлен” в первом романе цикла – “По направлению к Свану”), встречаются в бунинской прозе задолго до эпопеи французского модерниста66. Яркий тому пример – рассказ 1906 г. “У истока дней”, совершенно “прустианский” текст, написанный по-русски за год до того, как Пруст только приступил к работе над своей эпопеей.
Тема памяти могла обретать у Бунина религиозную прозрачность. Так, в этюде “Роза Иерихона” сухое пустынное растение, способное расцвести, как только его положат в воду, превращается в образ воскресения памятью, намекающий на иное – вечное Воскресение: “И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то!” [16, с. 5]. А рассказ “Сны Чанга”, где память именуется “божественной” и уподобляется “безначальному” и “бесконечному” миру, что “недоступен смерти”, завершается словами: “В мире этом должна быть только одна правда <…> а какая она, – про то знает тот последний Хозяин, к которому скоро должен возвратиться и Чанг” [17, с. 564].
Но здесь, на Земле для героев Бунина эта “правда” закрыта. Они окружены таинственными стихиями, олицетворяющими величественные и недоступные человеческому пониманию начала бытия. Неслучайно в очень многих сюжетных рассказах писателя герой и малое обжитое им пространство – будь то дом, корабль или даже телега на просёлочной дороге – погружены в буйный разгул природы: бури, штормы, громогласия и ливни.
Человеческие души вихрь иррационального пленит эросом. Любовь в прозе Бунина – загадочная и несовместимая с жизнью стихия пола, вторжение в обыденный мир потусторонних начал, “солнечный удар”, несущий с собой такое напряжение душевных сил, которое человек просто не в состоянии вместить. А потому типичный бунинский финал любовного сюжета – гибель одного из героев (рассказ “Дело корнета Елагина”, книга “Тёмные аллеи”, повесть “Митина любовь”, где самоубийство становится для главного персонажа единственным избавлением и от “диктатуры пола”, и от тривиальной обыденности существования).
Жизнь героя и целого сообщества может управляться и тёмной стихией наследственности. И в повести “Деревня”, которую русская критика, преданная иллюзиям о мужике-“страдальце” и “богоносце”, восприняла как пасквиль, и в “Суходоле”, повествующем о распаде “дворянского гнезда”, взаимоотношения дворянина и мужика предстают сложным клубком противоречий, в основе которого, впрочем, – общность судьбы и почвы (и это ощущение “народности” дворянства тоже роднит Бунина с Пушкиным). Он достаётся России XX столетия как тяжёлая наследственность, впитанная с общей кровью тайная любовь-ненависть.
В “Господине из Сан-Франциско” образы стихий кристаллизовались в пророческие символы гибели цивилизации “золотого тельца”. Бессмысленно живший и несуразно умерший безымянный буржуа из Америки совершает свой последний путь на борту корабля “Атлантида”, среди “адских топок”, окружённый “бешеной вьюгой” и провожаемый “дьяволом” “со скал Гибралтара”. Таков, по Бунину, удел “нового человека со старым сердцем” – героя новейшей цивилизации. Что же касается самой этой цивилизации, то рассказ русского писателя внёс свой весомый вклад в формирование апокалиптической метафоры её судьбы – метафоры обречённого корабля, – которая сквозной нитью прошила искусство XX в. от романа Г. Гауптмана “Атлантида” до фильма Ф. Феллини “И корабль плывёт”, найдя своё буквальное воплощение в символически предвосхищающей трагику грядущего столетия гибели “Титаника” в 1912 г.
В художественный мир Бунина влились на равных голоса западных и восточных предшественников – от Байрона и Лонгфелло до классика персидской поэзии Саади, чей голос вряд ли где ещё находил столь же конгениальное отражение в европейской культуре, как в лирических вариациях русского поэта на темы суфийской мудрости (“Смерть пророка”).
Бунин, который так за всю жизнь и не приобрёл в собственность никакого жилья, очень много путешествовал. География его странствий объемлет едва ли не всю Европу, где всё же особое место принадлежит Италии (прежде всего – любимому Капри, на котором написаны десятки бунинских шедевров и закончен классический “Суходол” и символический ландшафт которого предопределяет смысловой фон “Господина из Сан-Франциско”) и Франции, ставшей пристанищем на три десятилетия жизни писателя. Важнейшие вехи его путешествий связаны с посещением мест, так сказать, вечной памяти человеческой цивилизации: Святой Земли, Египта, Константинополя, Цейлона.
Реальные путешествия обращались художественными травелогами в стихах и прозе, не имеющими, однако, ничего общего с образцами жанра в духе путевых заметок об экзотических местах “цивилизованных” литературных туристов-буржуа. Запечатления бунинских странствий – это проникновение в прапамять древних городов и ландшафтов, попытка уловить момент пересечения в них настоящего с вечнобиблейским, вечнокораническим, вечнобуддийским, поймать и усвоить, уроднить уникальную музыку их духовного опыта. Отсюда и шедевры – книги “Тень Птицы”, “Храм Солнца” и “Воды многие”, – и не имеющая аналогов по разнообразию и виртуозности стилизаторского растворения в материале поэтическая ориенталистика Бунина, вбирающая в себя модуляции книг библейских пророков, суффийские и зороастрийские мотивы, мастерское освоение жанров традиционной арабской поэзии, следы гимнов Ригведы и буддийской канонической книги Сутты-Нипаты. К этому же ряду можно добавить и оставившие яркий след в бунинском наследии – вспомним хотя бы рассказ “Сны Чанга” – китайские источники начиная с важнейшего трактата даосизма “Дао дэ цзин”.
За универсальностью художественной оптики логично следует универсальность признания её носителя. В бунинской биографии, распадающейся на дореволюционный и эмигрантский периоды, каждый из них связан с рубежной вехой такого признания: до революции это избрание писателя в 1909 г. почётным академиком Императорской академии наук по Разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности, в эмиграции – присуждение ему в 1933-м Нобелевской премии по литературе. Обе эти вехи символически перекликаются между собой, но показательно и несходство связанных с ними обстоятельств. Если Нобелевская премия была Буниным, можно сказать, выстрадана, получению стокгольмских лавров предшествовал долгий, более чем десятилетний путь поступательного продвижения писателя к этой вершине, череда безуспешных номинаций и попыток убедить шведских академиков в необходимости именно в его лице отметить мировые достижения русской литературы77, то избрание российским академиком стало в своё время для него радостной неожиданностью, тем более что этим статусом он оказался наделён очень рано – в 39 лет.
О том, как разница контекстов двух наград отражалась в ревнивом сознании писателя, свидетельствует его запись в дневнике от 20 октября 1933 г., за месяц до присуждения премии, сделанная в томительном ожидании результатов из столицы Швеции: “Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Всё таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды – и тотчас удивление: нет, этого не м<ожет> б<ыть>! Главное – предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного события, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, напр<имер>!). Только один раз – Академия. И как неожиданно88! А их ждёшь…” [18, с. 238].
Приём в отечественную Академию – неожиданный и ранний – оказался тем более почётным, что в её состав в те годы – годы расцвета российской гуманитаристики – входили такие выдающиеся филологи, как А.А. Шахматов, А.Н. Веселовский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Соболевский, Н.А. Котляревский и другие. Представление на избрание Бунина почётным академиком было подано от имени литератора-правоведа К.К. Арсеньева и литературоведов А.Н. Веселовского, Д.Н. Овсянико-Куликовского и Н.А. Котляревского. Автором текста, по-видимому, был К.К. Арсеньев. Позволю себе на страницах “Вестника РАН” привести пространную выдержку из этого документа:
“И.А.Бунин давно уже обратил на себя внимание Академии. Его стихотворения и поэтические переводы были три раза признаны ею достойными Пушкинской премии99. Между сравнительно молодыми писателями он принадлежит к числу тех, которые остались свободными от широко распространённых в последнее время недостатков – вычурности, претенциозности и несдержанности в изображении известного рода отношений. Его прозаические произведения – два тома рассказов, из которых один выдержал три издания, а другой только что вышел в свет, – отличаются теми же достоинствами, как и его поэзия: простотою, задушевностью, художественностью формы. Особенно удаются ему описания природы: он идёт здесь по стопам Тургенева, нимало ему не подражая. С помощью их одних он умеет сделать привлекательным целый рассказ (напр., “Тишина”, “На Донце”). Как рамки, усиливающие и углубляющие впечатление картины, они встречаются у него почти везде. Очень хороши сцены недавней, но безвозвратно минувшей старопомещичьей жизни (“Антоновские яблоки”), изображение запущенных усадеб (“Фантазёр”, “Золотое дно”), типы отживших людей (“Кастрюк”, “Байбаки”, “Скит”). Он знает и любит крестьянский быт (“На край света”, “Сосны”, “Руда”); ему понятны мелкие, но тяжкие огорчения маленького человека (“Тарантелла”). Воспоминания детства воспроизводятся им с большой сердечностью и жизненностью (“У истока дней”, “Цифры”). Много оригинального и свежего представляют и его путевые заметки (“Новая дорога”, “Тень птицы”, “Зодиакальный свет”). Поэтичны те рассказы И.А. Бунина, в которых за прямым словесным смыслом, как бы скрывается другой, угадываемый или чувствуемый (“Перевал”, “Надежда”). Напоминает Тургенева и слог рассказов Бунина, чуждый манерности и деланности, но носящий на себе следы тщательной работы. Симпатичный талант Бунина даёт ему право на звание почётного академика, а разряд изящной словесности приобретает в нём деятельного и полезного сотрудника. 24 Апреля 1909” [цит. по 19, с. 802].
В этом представлении нет особо глубоких проникновений в художественную стихию Бунина, однако здесь зафиксированы устойчивые элементы его литературной репутации, связанные с преемственностью по отношению к отечественной классике, которые отзовутся по прошествии почти четверти века и в лауреатском вердикте Нобелевского комитета.
Бунин чрезвычайно гордился членством в Академии наук. Для человека с выраженным сословным самосознанием дворянина, который был чуток к внешним символам иерархического достоинства, воспринимал незаурядный культурный багаж как императив для себя, но при этом не получил не только университетского, но даже законченного гимназического образования, академические лавры оказались знаком особо ценимой чести. Уже в эмиграции, если это было уместно, он нередко свою подпись сопровождал принятой во Франции академической формулой “бессмертных”: “Jean de Bounine, de l’Académie russe” (“Иван Бунин, член Российской академии”). А в годы Революции и Гражданской войны статус академика если и не обеспечивал писателя охранной грамотой на случай нешуточных катаклизмов, то мог по крайней мере оградить от мелких неприятностей и докук. Так, Бунин вспоминал о забавном эпизоде, с которого начался его эмигрантский путь – на излёте пандемии “испанки”: «<…> в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай – для “дезинфекции”. Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым1010 Immortels – “Бессмертные“ (ибо мы с Кондаковым были членами Российской Императорской академии), что доктор, вместо того чтобы сказать нам: “Но тем лучше, вы, значит, не умрёте от этого душа”, сдался и освободил нас от него» [21, с. 226].
В эмиграции у Бунина был шанс благодаря, среди прочего, своему академическому статусу сделать университетскую карьеру. В 1920 г., прибыв в Болгарию, писатель получил предложение занять профессорское место по новой русской литературе в Софийском университете с признанием звания академика [22]. Но, как известно, в итоге предпочёл переехать в Париж, что в его случае означало ещё и выбор в пользу писательства с сопутствующими редкими триумфами и частой материальной неустроенностью, и отказ от стабильности университетской служилой карьеры. Этим приоритетам он неизменно оставался верен. И если, скажем, ему предлагали на некоторое время выступить в роли приглашённого профессора с приличным жалованьем, но это могло нарушить творческие планы, следовал недвусмысленный отказ. Именно так обстояло дело, например, в 1928 г., когда Бунин не принял предложения на семестр приехать в качестве лектора в Русский научный институт Белграда при ежемесячном содержании в 6000 динар: помешала подготовка к печати 3-й книги “Жизни Арсеньева” [23, с. 302, 303, 309, 310].
К чему российский академик Бунин действительно стремился, так это не успехи в отработке академических часов в студенческой аудитории, а лавры Шведской академии. Среди прочих перипетий предыстории получения Буниным самой престижной в мире премии по литературе обращает на себя внимание эволюция оценок его творчества в экспертных отзывах, заключениях и внутренних документах Нобелевского комитета. Оставляя детали в стороне и отсылая интересующихся ими к монографии Т.В. Марченко [10], ограничимся лишь сопоставлением резолюции Комитета о кандидатуре Бунина при самой первой номинации – 1923 г. – и некоторых позднейших документов.
Но сначала – предварительное замечание. После Первой мировой войны и Русской революции 1917 г. в Европе пошло нарастать движение за награждение Нобелевской премией именно русского писателя. Русская литература, к рубежу XIX–XX вв. утвердившаяся в правах одной из ведущих мировых и связанная с общеизвестными именами Льва Толстого, Достоевского и Чехова, всё ещё оставалась не увенчанной ни одной Нобелевской наградой. В этом многие видели явную несправедливость. Ситуация усугублялась крушением исторической императорской России, Гражданской войной, созданием СССР и массовой эмиграцией, повлекшей за собой культурный раскол. Всё это пополняло риторический арсенал в пользу “русской награды”: призывали увенчать не только великую, но и многострадальную литературу, представители которой, зачастую выброшенные в безбытность беженства, возможно, более других нуждались и в моральной, и в материальной поддержке.
Успешному решению этой задачи мешала политика: любое решение Нобелевского комитета воспринималось бы как идеологически ангажированное. Награждение писателя из Советской России либо нарочито к ней лояльного – вроде Горького, чья слава, действительно, была международной – могло расцениваться как явно просоветский жест и реверанс в сторону радикальных левых на Западе. Напротив: присуждение премии литератору-эмигранту антикоммунистических воззрений для многих означало бы “реакционный демарш” и к тому же вызвало бы нежелательное раздражение в усиливающейся и всё более влиятельной Москве. А Нобелевский комитет старался демонстрировать свою “нейтральность” и “взвешенность”.
Хотя бы отчасти снять остроту дилеммы могло награждение писателя, который воплощал в себе прежде всего не идеологическую партию, а нечто большее и безусловное, у которого “физика” политических воззрений растворялась в преодолевающей сиюминутные порывы “метафизике” вневременных ценностей. Именно такой фигурой и представал Бунин – не только безукоризненный мастер современной словесности, но и признанный продолжатель великой национальной литературной традиции и для очень многих завершитель линии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в поэзии, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстова и А.П. Чехова – в прозе. И пусть русскую поэзию в мире знали плохо – русскую прозу не просто знали: по меньшей мере со времени появления в Париже книги Э.-М. де Вогюэ “Русский роман” (1886) феномен, которому она посвящена, для очень многих на Западе и Востоке стал едва ли не культовым, по крайней мере – важной и необходимой частью мирового литературного канона.
Сказанное здесь о Бунине было очевидно для любого образованного русскоязычного читателя ещё с первого десятилетия XX в. Однако в Европе, где переводы его сочинений начали систематически появляться лишь на заре 1920-х, всё могло видеться иначе, о чём свидетельствует резолюция Нобелевского комитета от 1923 г., где, в частности, говорится: “Литературные сочинения Ивана Бунина довольно ограниченны и количественно, и по своей философской глубине. Он складывался как новеллист французской школы, за отточенным и сухим стилем которого читатель может представить истекающее кровью сердце страдающего за человечество писателя, но, с другой стороны, может истолковывать подобную литературу как выражение определённого рода эстетического фанатизма, который на алтарь Святого искусства жертвует что угодно, Исаака или овна, – с одинаково холодной радостью и риторической корректностью и жестокостью. Нелегко решить, какой взгляд правилен, ибо рассказы Бунина, несмотря на их несомненное художественное совершенство, вызывают в человеке холод и сердечную скуку, но заглушают всякие чувства, так что, высоко оценив литературное мастерство рассказчика, охотнее всего забываешь всё, что читал” [цит. по: 10, с. 275].
Итак, в 1923 г., при начальном знакомстве с творчеством Бунина, нобелевские эксперты сомневаются, кто перед ними: писатель русской традиции, озабоченной “истекающим кровью сердцем” и “страданием за человечество”, или же “новеллист французской школы”, этакий “русский Флобер” в эстетической башне из слоновой кости. И склоняются к тому, что скорее-таки Флобер. Премию не дают.
Впрочем, эта резолюция останется курьёзом. Известные нам нобелевские документы последующих лет, посвящённые кандидатуре Бунина, предлагают более адекватные оценки, в которых, однако, выявляются некоторые характерные тенденции. Одна из них состоит в позитивном подчёркивании шведскими экспертами тех черт в изображении писателем русского крестьянина, за которые отечественная демократическая и либеральная дореволюционная критика автора “Деревни” нещадно бранила. Имеются в виду отказ от идеализации мужика, от приписывания ему мистического мессианства, готовность запечатлеть его темноту и дикость. Так, шведский поэт Андерс Эстерлинг, член Нобелевского комитета, методично поддерживавший в разные годы кандидатуру Бунина, в своём эссе о русском писателе, увидевшем свет в 1933-м, когда тому и была присуждена наконец премия, с явным удовлетворением отмечал, что в его изображении жизнь русского мужика – это “грязь и нечистоплотность, водка и сифилис, тупость и безразличие, преступность и лень” [24, с. 148].
Справедливости ради надо сказать, что у основного нобелевского эксперта по Бунину шведского слависта Антона Карлгрена, трижды дававшего соответствующее заключение, тот же пафос сопровождается значительно более глубоким проникновением в суть сложной и удивительной картины народной жизни, возникающей под пером писателя. В его экспертном отзыве 1931 г. мы читаем о русском крестьянине бунинского “Божьего древа”: “Не самый красивый экземпляр в саду у Господа Бога – живущий без ухода дичок, согнутый ветрами и побитый бурями столетий, сжавшийся от недостатка солнца и воздуха, но это всё-таки творение Божие, которое, быть может, создавалось с особой любовью из материала, благородство которого видно даже в самом глубоком унижении и которого не может испортить даже выступившая на поверхность гниль. Несмотря ни на что, на этом дереве глаз писателя покоится с растроганным восхищением, и каким бы оно ни было, оно составляет для него часть того странного рая, который называется Россией” [цит. по: 10, с. 324].
И всё же в целом тема “пессимистичности” взгляда Бунина на русского мужика настолько рельефно выражена в экспертных материалах Нобелевского комитета, что автор монографии, посвящённой этим сюжетам, позволяет себе такие выводы: «Из всех русских кандидатов на Нобелевскую премию по литературе только творчество Бунина льстило неприязненным, извечно боязливо-враждебным взглядам шведов на Россию: ни историософия Мережковского, отводившего России важнейшее место в общеевропейском историко-культурном процессе и верившего в её пророческую миссию, ни мифотворчество Шмелёва, создававшего одухотворённый мир православной России, ни революционность Горького, горячо верящего в преображение страны, в непочатые громадные силы русского человека, – все эти образы России, сильной и прекрасной, не удовлетворяли готовым представлениям о ней. Именно Бунин, художник исключительного мастерства, с его экстатической “любовью-ненавистью” к родине, высказывал самые неутешительные слова о ней и делал самые мрачные прогнозы. Даже его редкое в русском писателе дарование стилиста интерпретировалось с нужной позиции» [10, с. 346].
В общем, конечно, подобные заключения слишком прямолинейны и во многом спекулятивны. Можно сколько угодно вскрывать потаённые русофобские подтексты решения Нобелевского комитета от 1933 г., но собственно факты говорят о том, что, во-первых, премия была присуждена русскому писателю и, во-вторых, писателю, её безусловно достойному. Это признавали практически все – в том числе литераторы-конкуренты и личные недруги, каковых у желчного, пристрастного, колкого, порой злоязычного и на зависть художественно безупречного Бунина было немало.
В конце концов чаяния зарубежной культурной России сбылись. Её сын был увенчан нобелевскими лаврами, причём именно как представитель большой национальной традиции – всей укоренённой в великом прошлом и потому живой русской литературы. По официальному определению Нобелевского комитета – “за строгое художественное мастерство, с которым он продолжил традиции русской классики в лирической прозе” (“för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktning”) [25, с. 206].
О значении этого события художественно ёмко и обобщённо точно высказался другой – так и не увенчанный – кандидат на Нобелевскую премию Иван Шмелёв: «Правда, наша “русская тройка Словесности” давно облетела мир (мыслящий), с победной гремью колокольцев и бубенцов, с ямщиком – чудом Пушкиным, с крепкими седоками – Гоголем, Толстым, Достоевским, с поддужными Тургеневым, Лесковым, Чеховым, Гончаровым… Но не было удостоверено сие протоколом для мировой улицы. Ныне, в чёрном обмирании русском, вдруг на всю улицу зазвенело – вот она, русская словесность, победная! Конечно, в оброшенности-то нашей даже этот Стокгольмский (случайный, конечно, ибо динамитный!) протокол – явление знаменательное. Вскочил Бунин на тройку, – в бешеном её беге, крепко вцепился и разбудил-растревожил колокольца, многим неслышные. И протокол составлен» [26, с. 413]. И сегодня, по истечении полутора веков со дня рождения героя этих строк, мы можем с уверенностью заключить: “протокол” оказался настоящим и от времени даже не потускнел.
И.А. Бунин после избрания академиком. Москва, 1909 г. (Русский архив в Лидсе. MS 1066/6186). На полях И. Бунин написал: “Я в Академии, 1909 г. Ив. Б.” (Литературное наследство. Т. 110. Кн. 1. С. 459)

И.А. Бунин. Грасс, 10 ноября 1933 г. (Русский архив в Лидсе. MS 1066/6186). К фотографии приложена записка рукой Бунина: «На пороге виллы “Belvédère” на другой день после присуждения Нобелевск. премии» (Литературное наследство. Т. 110. Кн. 1. С. 780)

Встреча И.А. Бунина, прибывшего для получения Нобелевской премии, на вокзале. Стокгольм, 5 декабря 1933 г. (Русский архив в Лидсе. MS 1066/6186). К фотографии приложена записка рукой И. Бунина: “Приезд в Стокгольм 5 дек. 1933 г. В.Н. Бунина, Цвибак, Бунин, Олейников” (Литературное наследство. Т. 110. Кн. 1. С. 800)
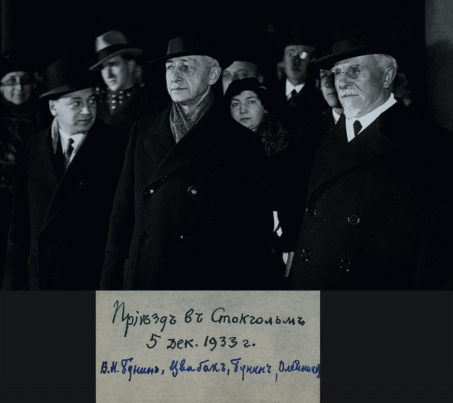
Список литературы
Мандельштам О. О поэзии. Сборник статей. Л.: Academia, 1928.
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 20 томах. Т. 20. М.: Терра, 1999.
В.В. Набоков и И.А. Бунин. Переписка / Вступительная статья М.Д. Шраера. Публикация и примечания Р. Дэвиса и М.Д. Шраера // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. Ред. Р. Дэвис, В.А. Келдыш. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 167–219.
Чернышёв А. Как редко теперь пишу по-русски…: Из переписки В.В. Набокова и М.А. Алданова // Октябрь. 1996. № 1. С. 122–169.
Boyd B. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М.: Московский рабочий, 1995.
Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин. Кн. 1. М.: Наука, 1973.
Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин. Кн. 2. М.: Наука, 1973.
Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1998.
Марченко Т.В. Русская литература в зеркале Нобелевской премии. М.: Азбуковник, 2017.
Письма Томаса Манна И.А. Бунину / Вступительная статья, публикация и примечания Р. Кийса // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. Ред. Р. Дэвис, В.А. Келдыш. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 370–386.
Казнина О.А. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М.: Наследие, 1997.
Régnier H. de. La Vie littéraire: Le Langage des choses, par Augustin Cabat (I vol., Chiberre). La Vie de famille au dix-huitième siècle, par Edmond Pilon (1 vol., Crès). Le Caniche blanc et autres contes pour adolescents, par Alexandre Kouprine (i vol., Bossard). Le Calice de la vie, par Ivan Bounine (1 vol., Bossard) // Le Figaro. 1924. 8 janvier. P. 3.
Бабореко А.К. Бунин: жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009.
Lushenkova Foscolo A. Les artistes-lecteurs chez Marcel Proust et Ivan Bounine. Paris: Classiques Garnier, 2017.
Бунин И.А. Собрание сочинений: В 4-х томах. Т. 3. М.: Правда, 1988.
Бунин И.А. Собрание сочинений: В 4-х томах. Т. 2. М.: Правда, 1988.
Бунин И.А., Бунина В.Н. Устами Буниных. Дневники: В 2 томах / Сост. М. Грин, с предисл. Ю. Мальцева. Т. 2. М.: Посев, 2005.
Летопись жизни и творчества И.А. Бунина. Т. 1: 1870–1909 / Сост. С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2011.
Чуковский К. Собрание сочинений: В 15 томах. Т. 7. М.: Терра – Книжный клуб, 2003.
Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950.
Письма И.А. Бунина Баяну Пеневу / Публ. И. Сарандева // Obzor. Revue bulgare de littérature et d’arts.1969. № 2. С. 93–99.
Бакунцев А.В., Морозов С.Н. И.А. Бунин и Е.В. Спекторский: переписка (1928–1933) // Studia Litterarum. 2018. Т. 3. № 4. С. 298–315.
Österling A. Dikten och livet: essäer. Stockholm: Bonnier, 1961.
Nobelpriset i litteratur: Nomineringar och utlåtanden 1901–1950. Del. II: 1921–1950. Stockholm: Svenska Akademien, 2001.
Ильин И.А. Собрание сочинений. Т. 3: Переписка двух Иванов (1927–1934) / Составление и комментарии Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2000.
Дополнительные материалы отсутствуют.





